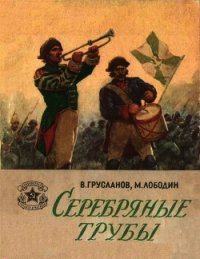Нагрудный знак «OST» - Семин Виталий Николаевич (читать книги онлайн регистрации .txt) 📗
Должно быть, привычно и бессознательно он бодрился и кокетничал не только перед полицаями, но и перед нами. А тяжесть ненавидящих, следящих за ним глаз стал замечать и учитывать к концу сорок четвертого года. Стал тяжелее опираться на палку, реже с ней расставаться. Перестал хвастать своей опасной, всех настигающей проницательностью. Стал что-то упускать, не замечать.
В это время к нему и явились эссенские. Полгода назад он сразу запер бы их в карцер – штубу нойен – и вызвал бы жандармов.
Штуба № 9 была попросту неотапливаемым барачным тамбуром. Особенно страшна она была зимой.
С первого взгляда было понятно, что эссенские – беглые военнопленные, которым надо прижиться в рабочем лагере. За побег они могли заплатить жизнью. Но на них и еще что-то могло висеть. Они не сразу пришли к коменданту, вели переговоры через Ивана. Иван носился по лагерю, значительно вытягивая длинную шею, отбрасывая пшеничный чуб. Конспирировал, возмущался, если у него спрашивали:
– Все лезут! Не знаю. Иван, Иван! Без Ивана никуда! – Иван всегда знал, что делает.
Весь лагерь был затронут переговорами. До самого конца нельзя было угадать, как поступит комендант. Трое эссенских вошли в вахтштубу. Дверь за ними закрылась. Вышли вместе с комендантом. Комендант провожал их на порог, опираясь на палку. Был страшно бледен. Отдавал распоряжения дежурному полицаю и Ивану, палкой показывал, в какой барак поместить.
Так же бледнел он, когда еще в лагерь приходили эссенские. И потом, когда видел их в лагере, страшно бледнел, старел, опирался на палку, как на костыль.
В лагере были умершие, беглые, на их место комендант и принимал эссенских. Не была новостью и причина – «лагерь разбомбило»,– на которую ссылались беглые. Но все понимали, что дело не только в этом.
До сих пор в лагере были только истощенные юнцы, вроде Костика, Сани, меня. Или пожилые ослабленные люди. Было два женских барака. Так что помимо всего прочего полицаи всегда имели превосходство зрелого возраста, физической силы. Теперь на пересчетах возникало напряжение. Перемену настроения полицаи улавливали мгновенно. И, хотя эссенские держались осторожно, полицаи обязательно напали бы на них. Так они всегда отвечали на чью-либо самостоятельность, самоуважение, так поступали с кем угодно, чтобы удержать на «рабочем» уровне лагерный страх. В Лангенберге в этом смысле было полегче, чем в первом лагере. На «Бергишес мергишес айзенверк» били вслепую. В Лангенберге побои можно было объяснить какими-то причинами – три раза бил меня комендант и три раза «за дело». На узкой площади тебе предлагали какой-то выбор. Вообще уровень страха в каждом лагере был, конечно, свой. Колебался он в зависимости от причин, которые можно учесть (например, чем больше лагерь, тем хуже) и которые учету не поддаются. Но, безусловно, была и общегосударственная отметка, к которой полицаи были обязаны дотягивать лагерный режим и которую они могли переходить как угодно далеко, поскольку в конце этого «как угодно далеко» была наша гибель. В арбайтслагерях рабочая сила для Германии только начинала свой путь, завершаться он должен был в лагерях уничтожения. Все это в разное время и ощущалось по-разному. Но ощущалось всегда. Теперь-то я знаю, что мне, пожалуй, повезло на маленький Лангенберг. И даже хромой лагерфюрер был, несомненно, не самым худшим из лагерных комендантов. Но на конечном результате это не сказалось бы никак, если бы не гигантское давление восточного фронта. Не то чтобы в конце сорок четвертого – начале сорок пятого лагерные полицаи как-то сразу изменились (что тут можно было изменить), но какие-то мысли должны были обязательно проникать в их головы. Сжимающий пружину чувствует, с какой силой она ударит. Избегать мыслей о будущем, отмахиваться от них могли только военные: от этих мыслей их в какой-то мере освобождала дисциплина, а если они по доброй воле совершали гнусности, то ведь они ничем не были привязаны к месту, на котором они эти гнусности совершали. Все наши полицаи были жителями этого города. И хотя в таком государстве вряд ли кого-либо можно считать добровольцем, все они были штатскими и, следовательно, добровольцами этой системы. Устраиваясь на свою работу, они, надо полагать, учитывали расстояние от дома до лагеря. Только комендант приезжал на трамвае, остальные приходили пешком. Им было удобно во время дежурства сбегать домой пообедать. Теперь они тоже должны были учитывать это расстояние – то, что надвигалось, неизбежно должно было застать их дома. Разумеется, это сейчас известно, сколько месяцев и дней оставалось до конца войны. К тому же столько было накоплено ненависти и лютости, что перед ними отступал сам инстинкт самосохранения. Как бы то ни было, с приходом эссенских, но как бы не по их вине запреты, на которых держался лагерный режим, стали ослабляться и отпадать. И комендант, появляясь на пороге барака, бледнел, улавливая запах печеной картошки, но быстро поворачивался и уходил.
И только эссенские вели себя сдержанно.
Иван смотрел на них голубыми преданными глазами, любопытно вытягивал шею, говорил:
– У меня самого два брата в Красной Армии.
Выгребал для них баланду со дна котла. Это были люди, перед которыми он был чист, которые были обязаны ему.
Они не приваживали, но и не гнали его. Я издали присматривался к ним. У них у всех была одна и та же манера смотреть и говорить. Вернее, недоговаривать. Каждого нового человека они ощупывали глазами, словно опасались, что он их узнает и уличит. Без дела они редко выходили на лагерный двор, расходились по нарам, если кто-нибудь к ним входил. Оставляли одного или двух для разговора. Однако разговор замерзал на каждом слове. Конечно, лагерное напряжение у всех вырабатывало настороженность, стремление уйти в темноту, стать или сесть так, чтобы тебя не видели. У меня самого, конечно, был настороженный взгляд. Естественным было выжидать, пока заговорит другой, не начинать первым. Но тут был другой уровень опасности. И каждый, кто входил к эссенским, сразу же ощущал, что из своего уровня опасности он попадал в куда более высокий. И только Иван не замечал или старался не замечать, как на него смотрят.
У меня сердце забилось, когда один из эссенских спросил меня:
– На «Фолькен-Борне» работаешь?
Этого военнопленного можно было посчитать главным среди эссенских. Ему было лет тридцать пять, звали его все по отчеству – Петровичем, он оставался «для разговора», когда кто-то приходил в барак. Он свободнее смотрел, рассудительнее говорил, охотно поддерживал любые темы (другие эссенские были как бы сосредоточены на том, о чем молчали), выходил на лагерный двор, знакомился.
– По шоссе мимо Лахмана ходишь?
Я кивнул. Шоссе было одно до самого Лангенберга. При фабрике Лахмана был лагерь женщин полек. И лагерь и фабрика казались нам загадочными, там было какое-то химическое производство, и я ждал, что Петрович спросит о Лахмане. Но он сказал:
– Разбитый дом знаешь?
Знал я, конечно, и разбомбленный двухэтажный дом. Попадание было прямым. Бомбой дом раскрыло, расщепило деревянные балки перекрытий. Они не провалились, а поднялись вверх, растопырились, держали на себе изогнувшиеся разделившиеся доски пола.
– Кто водит?
Я сказал, что на фабрику водит немец рабочий, иногда полицай. Теперь, бывает, с фабрики отпускают самих.
– Значит, задержаться минут на десять – пятнадцать можешь?
– Могу.
Он кивнул. А через несколько дней, когда я уже перестал надеяться, что разговор был неслучайным, он мне протянул окурок. Нас стояло человек пять, невольно следивших за тем, как укорачивается, подрезается огоньком в его пальцам самокрутка. Никто не хотел начинать знакомства с просьбы. Петровичу надо было самому выбирать. И, хотя я держался в стороне, он протянул окурок мне.
– Чего ж не приходишь к нам? Приходи!
И опять забилось сердце.
С этого времени началась для меня новая (не о Германии будь сказано!), счастливая жизнь. Даже на фабрике я думал о том, что вечером просижу у эссенских до отбоя и каждая минута будет для меня подарком. Может быть, впервые в жизни в бараке военнопленных я ощутил течение времени потому, что каждой новой минуты мне было мало. Не то чтобы мною занимались, меня почти не замечали. Не помню, например, ни одного слова, прямо обращенного ко мне ленинградцем Аркадием. Глаза у него были голубые, но взгляд тяжеловатый, не спрашивающий, а как бы заранее все знающий, отечные веки. И голубизна и какая-то властность замечались сразу потому, что глаза были навыкате, и потому, что для пленного такой взгляд был непривычен. Аркадий не занимался мною, но дело было не в этом – он включал меня. Если надо было что-то поделить, он спрашивал: