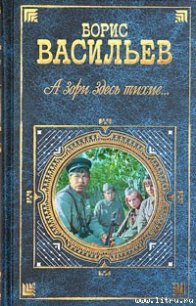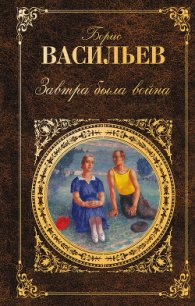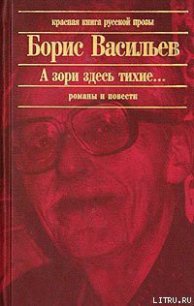А зори здесь тихие… (сборник) - Васильев Борис Львович (книга жизни .txt) 📗
А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и – не ушел, не отступил, не затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в костеле. Так же, как Володька Денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту. Так же, как Сальников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже сдался, уже не думал о сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрав в небо обе руки. Так же, как те, кому он обещал патроны и не принес их вовремя.
Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал: просто считал долги.
Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это – закон войны. Простой и необходимый, как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, не путем умозаключений: он открывал его на собственном опыте, и для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни.
– Тронулся лейтенантик, – говорил Федорчук, мало заботясь, слышит его Плужников или нет. – Ну, чего будем делать? Самим надо думать, старшина.
Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно заложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто – жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, неизвестное немцам подземелье.
– Ослаб он, – вздыхал старшина. – Ослаб лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, Яновна.
Тетя Христя кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен, и как тут быть – не знал.
И только Мирра знала, что ей делать: ей надо было, необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного свода кирпичи.
– Ну, чего ты там грохочешь? – ворчал Федорчук. – Обвалов давно не было, соскучилась? Тихо жить надо.
Она молча продолжала копаться и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный, покореженный чемодан. Тот, который так упорно и долго искала.
– Вот! – радостно сказала она, притащив его к столу. – Я помнила, что он у дверей стоял.
– Вон чего ты искала, – вздохнула тетя Христя. – Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твое вздрогнуло.
– Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только – зря, – сказал Степан Матвеевич. – Ему бы забыть все в пору: и так слишком много помнит.
– Рубаха лишняя не помешает, – сказал Федорчук. – Ну, неси, чего стоишь? Может, улыбнется, хотя и сомневаюсь.
Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмотрел все, что перед отъездом уложила мать: белье, пару летнего обмундирования, фотографии. Закрыл кривую, продавленную крышку.
– Это – ваши вещи. Ваши, – тихо сказала Мирра.
– Я помню.
И отвернулся к стене.
– Все, – вздохнул Федорчук. – Теперь уж точно – все. Кончился паренек.
И выругался длинно и забористо. И никто его не одернул.
– Ну что, старшина, делать будем? Решать надо: в этой могиле лежать или в другой какой?
– Чего решать? – неуверенно сказала тетя Христя. – Решено уж: дождемся.
– Чего? – закричал Федорчук. – Чего дождемся-то? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, спрашиваю?
– Красной армии дождемся, – сказала Мирра.
– Красной?.. – насмешливо переспросил Федорчук. – Дура! Вот она, твоя Красная армия: без памяти лежит. Все! Поражение ей! Поражение ей, понятно это?
Он кричал, чтобы все слышали, и все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. Он научился ждать.
Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плошек две погасли на ночь, Плужников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, ощупью направился к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться.
Он ничем не брякнул, не скрипнул, он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взвесил, под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, означал его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть: человека, который уже много ночей спал вполглаза, прислушиваясь к его дыханию так же, как он прислушивался сегодня к дыханию других.
Через узкий лаз Плужников выбрался в коридор и запалил факел: отсюда свет его уже не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел по коридорам, разгоняя крыс. Странно, что они до сих пор все еще пугали его, и поэтому он не гасил факела, хотя уже сориентировался и знал, куда идти.
Он пришел в тупичок, куда ввалился, спасаясь от немцев: здесь до сих пор лежали патронные цинки. Он поднял факел, осветил его, но дыра оказалась плотно забитой кирпичами. Пошатал: кирпичи не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал раскачивать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные сидели намертво: Федорчук потрудился на славу.
Выяснив, что вход завален прочно, Плужников прекратил бессмысленные попытки. Ему очень не хотелось делать то, что он решил, здесь, в подземелье, потому что тут жили эти люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или умственного расстройства, и это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда, но его лишили этой возможности. Значит, им придется думать, что захотят, придется обсуждать его смерть, придется возиться с его телом. Придется, потому что заваленный выход нисколько не поколебал его в справедливости того приговора, который он сам вынес себе. Подумав так, он достал пистолет, передернул затвор, мгновение помешкал, не зная, куда лучше стрелять, и поднес к груди: все-таки ему не хотелось валяться здесь с раздробленным черепом. Левой рукой он нащупал сердце: оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в сердце…
– Коля!..
Если бы она крикнула любое другое слово, даже тем же самым голосом, звонким от страха. Любое иное слово – и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из того мира, где был мир, а здесь, здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так страшно и призывно кричала бы его имя. И он невольно опустил руку, опустил, чтобы глянуть, кто это кричит. Опустил всего на секунду, но она, волоча ногу, успела добежать.
– Коля! Коля, не надо! Колечка, милый!
Ноги не удерживали ее, и она упала, изо всех сил вцепившись в руку, в которой он держал пистолет. Она прижималась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший порохом и смертью рукав гимнастерки, она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в девичьем упругом теле, он не нажмет на курок.
– Брось его. Брось. Я не отпущу. Тогда стреляй сначала в меня. Стреляй в меня.
Густой желтый свет пропитанной салом пакли освещал их. Горбатые тени метались по сводам, уходившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце.
– Зачем ты здесь? – с тоской спросил он.
Мирра впервые подняла лицо: свет факела дробился в слезах.
– Ты – Красная армия, – сказала она. – Ты – моя Красная армия. Как же ты можешь? Как же ты можешь бросить меня? За что?
Его не смутила красивость ее слов – смутило другое. Оказывается, кто-то нуждается в нем, кому-то он был еще нужен. Нужен как защитник, как друг, как товарищ.