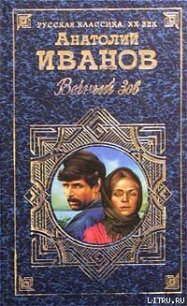Вечный зов. Том II - Иванов Анатолий Степанович (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
— Пошла бы ты! — прохрипел Кирьян. — Что ты в душу ко мне лезешь?
Старуха, будто не слыша этих слов, снова села на табурет. Кирьян опять лежал с закрытыми глазами, молчал. Молчала и Глафира Дементьевна.
— Анфиска-то тогда мёртвым ребёнком разродилась, который от Федьки был… Но я б всё равно её не бросил, коли б и живой родился, — проговорил Кирьян тихо и просто. Он открыл глаза, чуть повернул голову вбок, стал глядеть на пляшущие солнечные пятна.
— А может… Слышь, сынок? Я старая, всякого навидалась за долгую-то жизнь. Ну и что ж, кумекаю дряхлым своим умом, каково тебе было с такой женой, — старуха произнесла это как-то неуверенно, она говорила и будто одновременно раздумывала, стоит ли говорить дальше. — А вот почто-то мне чудится — не умом покуда она жила… Не умом.
Кирьян оторвал глаза отметены, медленно повернул голову к старухе, в измученных глазах его стоял вопрос.
— Я к тому, сынок… Мы в ранешное время не в городу жили, в Нижней Ельцовке, деревня такая под городом и ныне есть. Колодезь у нас был. Черпали да черпали из него, ко вкусу воды привыкли и не замечали его… А потом иссяк отчего-то колодезь. Стали мы воду в речушке брать. И вот тогда-то и поняли: господи боже ж ты мой, какая сладкая вода в колодце-то была! К тому я говорю, сынок, — написал бы ты Анфисе своей…
Кирьян изменился в лице, внутри у него будто застонало что, какую-то жилу будто стали вытягивать из него. Он поднял руки, опять схватился за спинку койки над головой, подтащил повыше, на измятую подушку, своё тело. Но ничего не сказал, так и замер, сжимая ладонями железную спинку.
— А что ж ты думаешь? А что ж ты думаешь?! — вгорячах воскликнула старуха, будто ей кто-то возражал посторонний, а не Кирьян. — Душа в тебе славная, Кирюшенька, чистая… Оно, бывает, до поры до времени человек и не видит, какое ж небушко-то над головой раздольное да красивое… Война-то сколь горюшка людского принесла! Всему она другую цену определила… Надька вот моя тоже не мёд-сахар была. Она ладная в девках ходила, а в бабёнках ещё глаже стала. Не укрою — млела она, когда мужики глаза к ней прилепляли. Да и кому это в сердце-то не кольнёт, бабьё мы, ох бабьё… Ну, и крутила Надька, бывало, хвостом. Бы-ва-ало! А сейчас локти грызёт. «Дура-то я, говорит, была несусветная какая».
— Сказал уж я тебе… не такая Анфиска.
— Да я те на то и отвечаю — и Надька была не такая! — упрямо возразила старуха. — Ну чо ты дальше-то будешь? Ну, в инвалидный дом тебя определят. Андрей Петрович, слышала я, говорил… «Коли, грит, семья от него откажется, не бросим на произвол судьбы». Так что в дом-то инвалидов всегда ведь не поздно. Но спробуй, напиши, вызови… Тогда уж видно всё будет. Дети ж у тебя кроме её.
Кирьян громко глотнул слюну, пальцы, сжимавшие железные прутья койки, побелели на сгибах.
— Дети… Верка, дочь, та сволочью выросла. Побрезгует и притронуться ко мне. Колька вроде бы с душой… ничего. Да тоже скоро на войну уйдёт, скоро его год забреют. И Анфиска забрезгует… Не ответит даже, может. Тогда я не переживу… Я её, стерву, всё ж таки люблю. Не-ет…
Голос Кирьяна хрипел, прерывался, слова он выталкивал тяжело, худая грудь тряслась, будто внутри у него, под рёбрами, ворочалось живое что-то.
— Не-ет! — выкрикнул он, мотая по подушке головой. — Не могу я… Н-не могу! Ей ведь не мужик, ей жеребец надобен. А с меня какое теперь… дело?
Кирьян заплакал навзрыд, как-то по-детски горько и обиженно. Добрая Глафира Дементьевна сидела на табуретке, глядела на него скорбно, жалеюще и тоже вдруг всхлипнула, потянула к глазам полу больничного халата.
Потом оба они затихли, замерли. Кирьян, лёжа на спине, глядел и глядел в потолок не мигая, Глафира Дементьевна сидела торчком, какая-то теперь строгая, холодная.
На госпитальном дворе загудела машина, проехала под самым окном, потом проехала ещё одна и ещё… Раздались голоса, и слышно было, как по дорожке, усыпанной не то дресвой, не то шлаком, торопливо пробежала толпа людей.
Глафира Дементьевна подошла к окошку, глянула вниз.
— Раненых привезли. Говорили, сёдни целый поезд должен с ними прийти. Идти мне надо.
— Сядь, обойдутся, — сказал Кирьян спокойно теперь, негромко. — Не могу я, Глафира Дементьевна, Анфисе написать… Я от неё на фронт когда побежал, то заявил: ежели, мол, не убьют меня, домой я к тебе всё одно не вернусь. С тем и сбежал…
— Как так — сбежал? — спросила старушка озадаченно.
— А так: смех и грех… Как ребятёнок малый… Я на броне был, меня не брали. Так я самовольно… Ночью вышел из дому, спустился к Громотухе, отвязал какую-то лодку да поплыл вниз. На рассвете завёл её в камыши, день пролежал там… как беглый какой с тюрьмы, что ли… Ночью опять поплыл. Громотуха-то в Иртыш впадает, а там, я знал, до Семипалатного недалече… В общем, добрался я до города Семипалатинска, на вокзале очутился. А тама как раз новобранцев провожают. Перрон там небольшой, всё кипит, плач, вой, пьяные песни. Под суматоху я залез с другими вместе в теплушку, да и поехал… В Алма-Ате только обнаружили, что я какой-то чужой… «Да что же ты за чудо-юдо такое? — спросил меня в военной комендатуре белобрысый полковник с костылём. — Хохотать над тобой вроде бы неудобно. А что делать, не знаю. Впервые, грит, такой случай, что взрослый самовольно на фронт побег. Дети — это бывает… Посадить тебя я вынужден до выяснения. Может, ты бандит какой, преступник, от правосудия скрываешься…» Я говорю: «Что ж садить-то? Позвоните в село Шантару, в МТС, или телеграмму отбейте. Они вам сообщат, что я никакой не преступник…» Ну, в общем, что говорить… Покрутили они меня, повертели… Сбежал я осенью сорок первого, а под новый год меня уже ранило. Город Ливны мы тогда брали. И взяли. На окраине этого худенького городишка меня и задело в мякоть ноги…
— Господи! — Глафира Дементьевна перекрестилась.
— Рана была пустяковая, в медсанбате малость подержали да опять в бой… Ну, потом больше года судьба миловала. Две медали получил. А нынче в апреле под Новороссийском… не то числа седьмого, не то восьмого… Только и помню — ка-ак жахнет рядом. Мы в наступление шли, мало-мало снаряд не в меня прямо угодил… Очнулся я аж в городе Куйбышеве. Молоденькая такая врачиха возле меня сидит в белой шапочке, а из-под шапочки волосы стекают струями. Откуда ж ты, думаю, светлая да чистая такая, явилась? Из какого мира? А она: «Ну вот, поморгай, поморгай… Жить теперь будем, Кирьян Демьяныч…»
Инютин умолк, захлопал короткими белёсыми ресницами, потом быстро и часто задышал, повернул голову вбок. И лишь через минуту, по-прежнему глядя куда-то в стену, захрипел:
— Жить… Добрая была она, врачиха, всё улыбалась. Только ноги мои когда начнёт оглядывать, закусит губы, глаза потускнеют… Сперва я думал — брезгует или стесняется. Да и самому мне стыдно было — во всём виде я перед ней. А она это, выходит, раньше меня понимала, что отходили мои ноги. Выше коленок кости все были раздроблены…
Инютин, утомившись, видно, рассказом, опять замолчал, выпуклый лоб его покрылся испариной. Он пошевелил головой, обтёр лоб бледной, узкой ладонью, глянул на Глафиру Дементьевну.
— Вот, значит, как… Што-то они там, врачи, колдовали над моими ногами — то в гипс их замазывали, то… Потом вдруг в поезд погрузили да сюда вот…
— Ну да, ну да, — закивала старуха. — У нас тут, грят, лучше всех кости сращивают. Андрей Петрович-то умелец…
— Так что же мне не срастили? — застонал Инютин, рывком приподнявшись. Глаза его сверкнули яростно, озлобленно, и одновременно была в них беспомощная жалоба. — Что ж он, умелец?
— Да ведь и он не господь бог. Кабы он мог, он бы тебе свои переставил! Такая душа у него…
Кирьян упал на подушку, закрыл глаза ладонью, чтобы отгородиться от всего — от солнечного света, от белого потолка, от этой старухи. Долго лежал так, потом заговорил, не снимая ладони с лица:
— Это надо же… Отец-то у меня тоже был увечный, одноногий, на деревяшке прыгал. На японской войне ему ногу повредило. И надо же, говорю, судьба, что ли, над нами, Инютиными? Отцу тоже тут, в новониколаевском лазарете, ногу тогда отпилили. Только ему одну, а мне обои… Ну, ты уйди… Уйди.