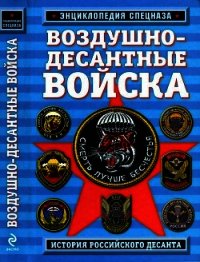Том 3. Воздушный десант - Кожевников Алексей Венедиктович (бесплатные онлайн книги читаем полные .TXT) 📗
Еду до полной темноты, все лугами, в стороне от деревень и шумных дорог. В темноте сбрасываю немецкую шинель с каской, оставляю коня идти куда хочет, а сам ударяюсь к полям, откуда доносится разный деревенский шум.
Моя повязка промокла. Добавляю к ней чистое запасное полотенце. Начинается жар. Мучит жажда. Воду горбатого Харитона давно выпил. Надо поскорей к людям.
Устал, ослабел от потери крови, еле-еле держусь на ногах. Во всем теле такая слабость, что десантское снаряжение кажется огромной горой: вот придавит, расплющит меня наподобие каменного обвала.
Мне плохо. Вся толстая повязка промокла, напиталась кровью, и рана продолжает кровоточить. Пришлось еще намотать пару нижнего белья. Больше у меня ничего нет, кроме заношенных портянок.
До рассвета мотаюсь от деревни к деревне, ищу такую, где нет фрицев. Везде на улицах стоят военные и разгуливают патрули. Фрицы в последние дни густо валят к Днепру — либо готовятся к нашему удару, либо сами готовят удар.
К рассвету набредаю на табачную плантацию. Не та ли уж, от которой бежал вчера? Может и верно, что мое левое плечо тянет, лезет в сторону, как говорил Сорокин. А черт с ней, какая плантация, лишь бы могла укрыть. И прячусь на день в табак.
Я люблю рассуждать, но живу не по рассуждениям, а по нужде. Страх, что рана без лечения может обратиться в смертельную, гонит меня с табачной плантации к людям.
Чуткий вечерний воздух доносит голоса двух деревень.
— Ну, вещун, говори, куда пойдем? — спрашиваю свое сердце.
Мы, десантники, верим голосу нашего сердца. К этому приучили нас загадки, неожиданности и капризы десанта. Наши глаза, уши, ум, опыт часто бессильны понять, угадать обстановку и отказываются что-либо советовать. Но сердце и в самом неясном положении чего-нибудь хочет, и мы отдаемся этому бездоказательному зову.
— Ну, куда же?..
В ту, в правую деревню. Почему? Так, без всяких «потому»… Больше нравится. Там кто-то очень хорошо поет про рябину: «Как бы мне, рябине, к дубу перебраться, горько, сиротине, мне одной качаться».
Поет женщина, в одиночку. Дойдя до конца, она начинает песню снова. Вот и пойду прямо на песню, прямо к этой женщине.
Подхожу к деревне. Но песня умолкает, и сердце не может подсказать, куда лучше постучаться. Буду стучаться в первую хату. Но первых хат две — правая и левая. Долго стою в нерешительности: в какую? В одной может быть песня, а в другой пуля.
Постучался в левую. В хате раздались шаги и немецкая речь.
Быстро отступил за огороды и сады, в поля. Надо искать другую деревню, эта, видимо, полна фашистов. Они не любят крайних хат и останавливаются в них только при большой тесноте.
Брожу долго-долго, всю ночь. Устал, ослаб до того, что даже свои косточки стали неподсильны, еле-еле передвигаю ноги.
И снова впереди две деревни. Не пойму, что это: либо у меня двоится в глазах, либо все деревни стоят здесь парами, либо я кружусь около тех, которые уже видел. И в самом деле есть в них что-то знакомое.
Иду в ближнюю. В улице серо, скоро начнет всходить солнце, проснутся фрицы. Но я иду. И пойду! Моя, родная земля… Кто посмеет помешать мне?! Никто и не думай! Пусть только попробует — я тому!..
Увидел старика, вырезавшего лишний вишенник, и попросил у него пить. Он, не бросая работы и еле глядя на меня, сказал:
— Толкнись, хлопче, в крайнюю хату села, за оврагом, что вся в подсолнухах. Я, знаешь ли, не играю со смертью, не дразню ее. Поиграл тут один… — старик замялся, — …не сердись на меня, хлопче!..
Хата с подсолнухами — самая крайняя, немножко на отшибе от других за овражком. Подхожу к ней не с заселенной стороны, а с пустой, с напольной. И… сколько вокруг подсолнухов! Как, должно быть, красиво летом, когда они в цвету. А теперь шляпы срезаны, стоит одно обезглавленное будылье.
Эта маленькая, белая хатенка, похожая больше на игрушечную, чем на настоящую, — моя последняя надежда. И захожу в нее без стука, без спроса, напролом. В хате у окна, лицом к двери и ко мне, стоит девушка или женщина. Кто их разберет: они теперь одеваются все одинаково, в лохмотья, какие оставила долгая жестокая война. Эта по-домашнему простоволосая, босоногая, голорукая, в коротеньком стареньком платье. Она, очень молоденькая, худощавая, бледно-голубоватая, чем-то сильно расстроена — вся трепещет, как маленькая осинка на большом ветру. Она не спускает с меня своих глаз, резко обведенных темными ресницами.
Прошу напоить меня. Быстро, с ненужной даже поспешностью, но без всякого шума, она приносит из сеней ковш воды. Выпиваю и прошу поесть: если уж нашелся добрый человек, то не хочу, нельзя, не стану выпускать его скоро из своих рук.
С той же готовностью и поспешностью она подает мне в руки краюшку черного хлеба и красное-красное яблоко. Беру, кладу на стол и сам хочу подсесть к нему.
— Нет, нет! Ни-ни! Никак нельзя. Покушайте, человече, где-нибудь там! — тревожно шепчет девушка.
— Я ранен. Скажите, где живет Харитон?
— А вы кто? — шепчет она совсем тихо.
— Я… Харитон знает. Скажите, где он. Я попрошусь к нему.
— А вы кто? Тот?.. — спрашивает она. — И вы ничего не знаете? — Она вздыхает. — Нет больше Харитона. Его повесили.
— За что? Когда?
— Вчера. Ему сказали: «Укажи, где тот… тот, кому возил воду». А Харитон: «Знать никого не знаю. Никому не возил. Бутылку нашел в поле». Потом кто-то убил в табаках трех немцев, и Харитона повесили.
— Где?
— На улице. Столбы стоят еще.
Она замолчала. Молчу и я. Ну что тут скажешь? Харитон погиб за меня, за свою доброту, за свое праведное сердце, за свою великую душу. Так же за доброту, за горячее сердце может погибнуть и эта девушка.
Мне надо поскорей уходить. А куда? Не знаю, что делать, совсем разбит, подавлен усталостью, потерей крови, бедой с Харитоном и страхом за эту женщину.
Но голод ничего не хочет знать, ни с чем не хочет считаться, руки сами собой бесстыдно начинают ломать хлеб.
— Это вы там… там… Берите — и с богом!.. — лепечет хозяйка, озираясь трепетно и опасливо на окна.
— Видите, я ранен, истекаю кровью. Надо же где-то перевязать рану. — И решительно, крепко сажусь к столу.
Она подбегает к одному, к другому окну, быстро взглядывает на улицу, потом оборачивается ко мне. Я привстаю от удивления — такое у нее новое лицо. Ласковое, печальное, именно такое, каким бывает у женщины, когда она провожает дорогого человека, провожает далеко, надолго и вот стоит с ним последние минуты и всей душой томится, что они убегают слишком быстро.
Меня — кроме мамы и бабушки — еще не провожали так, у меня нет девушки, которой я мил, дорог, но у моих товарищей я наблюдал такое.
Потом девушка подходит ко мне, кладет руки на мои плечи, гладит грязную, загрубелую куртку, глядит мне в глаза, с мольбой и нежностью, и говорит таким голосом, которому невозможно противиться, каким говорят: «Милый, хороший, побудь со мной еще хоть минутку». Говорит:
— Уходите!
И лицо, и взгляд, и тон слов так не сходятся со смыслом сказанного, что я вскакиваю от удивления.
— Прошу вас, уходите! В овраг! — повторяет она.
Ухожу. Хлеб и яблоко остаются на столе, остается в хате и моя опора — палка.
Иду безрассудно смело. Вокруг меня белый день. А мне все равно: пускай тут фрицы, танки, автоматы!
Мне захотелось оглянуться на виселицу, где погиб Харитон. Если бы я не подвернулся, Харитон жил бы, как и до меня, он принял мою казнь. Виселицу не видно, она потерялась среди деревьев и колодезных журавлей. Но хорошо видно одинокую хату на отшибе, у оврага. Возле нее над темным будыльем трепыхается что-то белое, косынка или полотенце. Не мне ли машет та девушка, машет на счастливую дорогу? Спасибо! Косынка трепыхнулась выше. И я поверил, что это было для меня: извините, такое уж лихое время. Но я желаю вам добра. Идите легко и счастливо!
Поверил и не хочу сомневаться в этом.