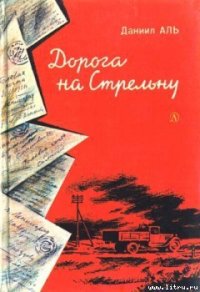Пермский рассказ - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн бесплатно полные версии TXT) 📗
— Жалеешь? — только и мог спросить старик.
— Я не хотела этого, — не слыша его, продолжала она, — но отомстила тебе. Отомстила, — устало повторила она. — Тебе казалось, что ты легко забыл меня, а пронес меня через всю свою жизнь. Забытая, я владела тобой, с кем бы ты ни был. И они, с кем ты бывал, чувствовали, что я рядом, что ты не весь принадлежишь им. Тебе казалось, что ты сам уходишь от женщины, потому что разлюбил ее, а ты никогда и не любил ее, а это я уводила тебя. Я не разрешала тебе никого полюбить так, как я любила тебя…
— Ладно, — одними губами выговорил старик, — пусть… Но… неужели у тебя не появлялось… как это?.. желания напомнить о себе?
— А зачем? Стоило мне вернуться к тебе, и все началось бы сначала. Но я боялась не этого. Дело в том, что я, которая ушла от тебя, я ушла вообще, меня больше не существовало. Была уже другая я. Иногда я даже завидовала самой себе: бывают же счастливые люди — которые умеют любить. И как! Мне это счастье выпало только один раз в жизни…
…Старик замолчал.
Молчали старики.
— Дурак, — сказал один из них, самый старый, — вопиющий дурак.
Никто ему не возразил.
Каждый взял стакан и выпил за здоровье своей самой большой любви, потому что каждый перед ней был хоть немного, да виноват.
И в тот вечер старики впервые долго сидели молча, слушали песнь бора, морщились от звуков танцплощадки и ожесточенно дымили, даже те, кто давно бросил курить.
— Дурак, — повторил самый старый старик.
А когда ветер перемешал песнь бора со звуками танцплощадки, засобирались домой.
Старик проводил их до пристани, помахал шляпой, долго стоял, словно что-то потерявший, а потом бродил по берегу.
Плохо было старику.
До того плохо, что даже река не утешила его.
Для чего он придумал ту, которой не было?
Он тяжело поднялся по скрипучей лестнице к себе на второй этаж, долго сидел на балкончике, потом ушел в комнату.
Тревожно и мудро пел бор. И старый дом, как бы подхватывая эту песнь, был наполнен грустными короткими мелодиями. Ведь в свою долгую жизнь он высох, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждое соприкосновение бревен, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты.
Старик сидел, забыв о бессоннице.
То есть как это — не было большой любви?
Была когда-то, но — когда?
Позвольте, позвольте… Жену он любил, конечно, это он точно помнит. Жили как люди живут, только вот детей не было. Восемнадцать лет длилась эта история. И восемнадцать лет жена упрекала его в том, что он ее плохо любит. Каждым взглядом своим, каждой ноткой голоса упрекала… И он всегда чувствовал себя виноватым перед ней. Когда же она умерла, он лишний раз понял, что все-таки любил ее горькой, какой-то словно согнувшейся в ожидании удара любовью.
Были еще женщины, поначалу даже хорошие, иногда добрые, но потом они упрекали, упрекали, упрекали… и в душе возникла пустота. И, слава богу, со временем он получил возможность обходиться без них.
…Может быть, самая большая любовь — это работа?
Ему давно хотелось лечь, но он устало и больно сидел и курил.
Таяла ночь.
Из-за Камы едва-едва светало. Вернее, еще не светало, но у всего живого рождалось предчувствие близкого рассвета.
Бор успокоился, и песнь его была просто грустной.
Дом замолк. Ведь он был стар, как старик, и ему требовался отдых.
А старик лег на подоконник, чтобы быть поближе к песне сосен.
…Нет у него в адрес своей судьбы особых критических замечаний, хотя она могла быть и лучше.
Могла быть и хуже.
Не в этом дело.
Просто надо выдержать свою судьбу и ничего у нее не просить. Непоправима только смерть.
…Ночь растаяла.
Вокруг уже начинали петь птицы — по недолгу, пробуя голос. Ночная песнь бора сменилась утренней — светлой, наполненной ожиданием радости и покоя.
«Я честно прожил свою жизнь, — подумал старик, но от этой мысли ему не стало радостно. — Я был счастлив своим трудом. — Он вздрогнул от возмущения. — Ты еще похвастайся тем, что никого не предал, не убивал, не воровал! Был ли ты счастлив лично? Дал ли кому-нибудь личное счастье? Хоть одной женщине? Хоть одному ребенку?»
Детей у него не было. Женщины были.
Старый дом отдохнул, начал повизгивать, поскрипывать, покряхтывать.
Солнце стало теплым.
Старик поздоровался с мухой и бабочкой, выпил глоток кофе, запил его коньяком и — раскурил еще теплую трубку.
И тут он обрадовался. Ведь была в его жизни большая любовь! Была! Он вспомнил ее сразу, в один миг, как будто она появилась рядом.
— Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков! — весело и громко повторил старик. И выпил еще глоток.
Охо-хо… Это была самая большая и самая первая его любовь — глупая, как ему тогда казалось, девчонка с острыми локотками, в застиранном платьице, робкая на людях и отчаянная, когда оставалась с ним вдвоем. Никогда ничего она не просила, всегда была за все благодарна, богатая своей любовью. Она была его первой, и никто не сумел с ней соперничать. Все, что он узнал о женщине, о любовном счастье, он узнал от нее, и ни одна не смогла этого повторить.
А он не понял.
И она ушла.
Или он ушел?
И долго казалось: забыл.
Забыл по-молодому, без сожаления, тем более, без укоров совести.
И пронес ее через всю жизнь. Она была в такой глубине души, что чувствовалась оттуда только как далекое-далекое эхо неизвестного голоса.
Забытая, она владела им.
Она не простила ему, что он не понял ее. Она как бы растворилась в нем.
Ему казалось, что он уходит от женщины, потому что разлюбил ее, а он и не любит ее, а это она уводила его, она, его самая первая, самая большая и последняя любовь.
Не разрешила она ему никого полюбить так, как она его любила.
И все-таки она — была.
…Старик прошелся по комнате, и остатки запонок заскрипели у него под ногами.
Он куда-то торопился, но не мог понять, куда?
А он торопился доказать ей, что не зря они встретились. Он докажет ей это.
Старик сел за стол работать. Ведь он был стар, как дом, в котором он жил, и ему действительно надо было торопиться.

Николай Вагнер
ПИСЬМО
(Записки учителя)

«Алексей Федорович! Я далжна Вам написать…»
Я не знаю, почему вкралась эта досадная «а» в ее письмо: она ведь первая ученица школы!
Мои коллеги считают меня человеком «самым беспечным». На учительском банкете по поводу очередного выпуска наш завуч сложил про меня даже куплет. Ефим Сергеич прочел его, приподымая рюмку, своим козлиным, вовсе непрезентабельным баритоном — кое-кто посмеялся.
Но, помилуйте, почему же это я «самый беспечный»? «Вечный холостяк», конечно, ближе к истине. Я — старик. Мне тридцать семь лет. За эту частицу века испытано не так уж мало. С тринадцати — сирота. До шестнадцати — завидное житие у дальней родни; семь месяцев (в том числе и по общему подсчету!) — по больницам. Но прыти моей от этого не убыло: первые разряды по легкой атлетике, среди первых окончил школу.
На фронт запоздал. «Повоевал» (если так разрешено выразиться) в весьма юном возрасте и маловато, всего три недели в самом конце войны. А исковеркало подходяще. Хорошо еще, нога не окостенела, как сулили эскулапы, и я не хромаю, а также и легкие выровнялись. Только рубчики на теле, как татуировка у доброго индейца! Но под одеждой не видно.