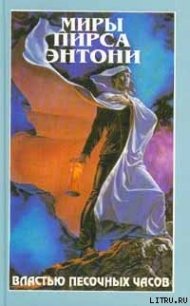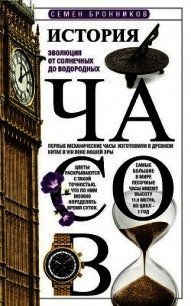Песочные часы (Повесть) - Бирзе Миервалдис (версия книг .txt) 📗
Эгле взял конверт и положил в наружный карман пиджака. Потом, словно вспомнив о чем-то, переложил во внутренний. Со стороны можно было подумать, что конверт содержит особо ценный или секретный документ, о котором ни в коем случае не должны узнать другие. Он поспешно вышел во двор, стал в тени липы, вынул письмо и распечатал. В конверте был самый обычный бланк с анализом крови.
Эгле подержал листок перед глазами и опустил. Лицо его устало обмякло, складки на щеках стали жестче и глубже. Глаза больше не видели улицы за железными воротами, а, казалось, разглядывали нечто другое. Он сунул анализ в карман.
— Конвертик уронили, — окликнул его привратник.
Эгле не оглянулся. Конверт остался на булыжнике у больничных ворот. Да, с таким количеством тромбоцитов можно от небольшого пореза на пальце истечь кровью. Стало быть, ухудшение. А ведь совсем недавно ему опять вливали здоровую кровь. Лучевая болезнь убивает его кровь. Медленно, но неотвратимо.
Эгле устало провел рукой по лбу. Опять разболелась голова, а проведешь по лбу — боль вроде бы утихает. На левом виске, где волосы изрядно отступили к затылку, он ощутил твердый рубец. Эта отметина с детства — катился на санках с крутой горы. Санки разогнались да неожиданно свернули к лесу. Нечего было и думать остановить их, оставалось лишь надеяться, авось пронесет мимо замелькавших черных стволов. Но не пронесло. И сейчас то же самое: а может, не ударятся санки о дерево.
Полгода назад он окончательно понял, что причина мучительной усталости, головных болей, тошноты и прочих недомоганий — застарелая лучевая болезнь, и все-таки каждый раз, когда у него брали на исследование кровь, он бывал только больной, и, как всякий больной, не терял надежды.
Сегодня же, читая анализ, Эгле снова был только врач. Он знал — все лишь вопрос времени. Печальный исход — дело нескольких месяцев…
По тротуару шли две девушки. Одна смеялась. У нее рыжеватые, подкрашенные волосы. К воротнику зеленого пальто приколота деревянная брошь. Чему смеется? У Эгле болезненно сжалось сердце. Сердцу не достает крови, вот оно и болит, это Эгле известно. Но знание не защищает от боли. Девушка, наверно, радовалась скворцам, щебетавшим в больничных липах. Догнать ее и сказать: «Не смейся, мне осталось мало жить!» Или встать посреди улицы Ленина, задержать все автомобили, мотоциклы, велосипеды: «Стойте! Как можете вы спокойно ехать, ведь через несколько месяцев меня не станет!»
«Идиот! Кому, кроме тебя, дело до этого», — сказал себе Эгле и в сердцах захлопнул дверцу машины.
Они выехали из города. Эгле казалось, будто все вокруг него иное, не такое, как раньше; предметы обрели непривычно резкие очертания и не скользили мимо взора в сливающейся череде других. Теперь они следовали по отдельности, каждый со своей историей и биографией. Каждое дерево аллеи больше не было деревом среди прочих деревьев, но превратилось в конкретный тополь или в березу, которая своими силами некогда пробилась из земли сквозь палые листья и перегной по соседству с невзрачной сыроежкой; потом эта береза была выкопана, перевезена и вновь посажена и ныне живет на обочине Видземского шоссе. Больше не было сплошного потока едущих, но были отдельные машины, водители которых, казалось, смотрели на Эгле и видели его тревогу. Эгле стало не по себе оттого, что он не может скрыть своего поражения. «О боли узнают по стонам, так молчи же», — одернул он себя.
Поселок Аргале, где находился санаторий, был в тридцати километрах от Риги. В центре поселка стояла старая усадьба, от которой лучами расходились пять дорог, обсаженных дубами, липами и кленами. В длинной конюшне при старой корчме, потемневшая черепичная крыша которой покрыта зелеными подушечками мха, устроена мастерская мелиоративной станции. У начала аллеи, за шеренгой кленов, строился трехэтажный дом для работников станции. Дорогу перегородил автоприцеп с белым силикатным кирпичом.
— Что ж, мне теперь до вечера тут стоять! — громко возмутился Эгле, но тут же подумал, что, может, ему и незачем торопиться, махнул рукой и стал ждать, пока трактор, стрекоча и кашляя, перетащит прицеп через канаву.
В красном каменном доме с островерхой — на немецкий манер — крышей некогда, по словам здешних стариков, жил сам помещик, но вот уже двадцать пять лет, как его занимал директор санатория, то есть Эгле с семьей. В саду, за кустами сирени и шиповника, цвели яблони. У старомодной веранды, застекленной узкими и мелкими стеклами, распустились нарциссы. За домом тянулась пашня, а дальше — косогор и луга до самой реки Дзелве, точнее — речки, через которую разве что весной и осенью было не перепрыгнуть.
Эгле вышел из машины.
— Янели, загони в гараж.
Янелис быстро пересел за руль. Самостоятельно он имел право ездить лишь вокруг дома, у Янелиса не было шоферских прав.
Через веранду Эгле прошел в уютную гостиную, низкий и уютный потолок ее украшали тяжелые, коричневые деревянные балки. Из гостиной вела лестница наверх, в спальню. Эгле не стал подниматься, а прошел в кабинет.
Он сел за письменный стол. Тишина. На столе трепетали мягкие тени — весенний ветер за окном шевелил плети дикого винограда, и они время от времени осторожно постукивали по стеклу. Эгле обвел взглядом комнату, в которую он вошел четверть века назад и которую в недалеком будущем предстоит покинуть. Первым приобретением был вот этот старомодный стол с тумбами. Потом появились две высокие, под самый потолок, книжные полки, первое время полупустые, а теперь до отказа набитые книгами. Лишь на самом верху стояли не книги, а глиняные подсвечники, керамические лошадки и прочие изделия латгальских искусников. В самом углу, опершись подбородком на полку, красовался череп; глазницы его смотрели куда-то за пределы комнаты. Эгле еще помнил длинное название крохотного отверстия в височной кости: «апертура екстерна каналикули нерви петроси суперфициалис майорис». Семь этих слов все тридцать лет, минувших после экзамена по анатомии, занимали место в какой-то клетке мозга. Ему, Эгле, за тридцать лет знание этих слов ни разу не понадобилось. Человек затверживает уйму ненужного, потому что не знает, что в жизни ему действительно потребуется. Не забыть сказать Янелису, чтоб не начинял голову без разбору.
Перед полками лоснятся черной кожей диван и два глубоких кресла; рядом низкий столик с радиолой. Старомодно, но добротно и удобно. Кресла появились одновременно с Гертой. В военное время они подумывали, не пустить ли кожу с кресел на верха для ботинок.
Эгле вздрогнул — на стол поставили чашку кофе. Сестра. Он успел заметить лишь перекрещенные на ее спине лямки от передника и узел седых волос на затылке, когда она выходила из комнаты. Кристина принадлежала к числу людей, которых не замечают, когда они в доме, но сразу ощущают их отсутствие.
Эгле выпил кофе. Кофе и само по себе вкусно, а имеющийся в нем кофеин, возможно, подымет кровяное давление. Возможно. Во всяком случае, пить кофе приятно, и оно не вредит. А стол совсем уже почернел. Полировка лишь местами тускло отблескивала, словно водяная лилия ночью.
«Зачем ты думаешь про стол, про кофе? Не увиливай! Лучше реши, на что потратить оставшееся время. Можно, скажем, натешить себя всеми земными радостями, не полагаясь на блаженство в раю, или же… или жить, как обычно, и ждать. Как же быть? Предаться наслаждениям? Надо еще уточнить смысл этого слова. Часто под „наслаждением“ подразумевают розоватый свет ночника, откинутое одеяло и объятия нагой женщины. Это, увы, не для меня. Мне всегда был страшен похмельный рассвет в чужой спальне. Стало быть, не подходит.
Иным доставляет наслаждение водка. Я же всю жизнь с удовольствием пью пиво. Благодать, когда оно таинственно шипит в стаканах, рассказывая про ячменное поле, про чешуйчатую головку хмеля, которая летом прячется где-то на верхушке прибрежной ольхи. Я люблю выпить вина, в особенности холодного, от него запотевает стакан, а глотнешь — и на душе сразу делается тепло, доброта тебя охватывает ко всем… Но я никогда не пил, чтобы забыться.