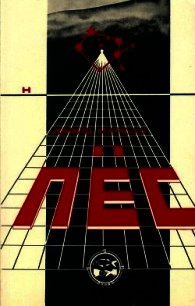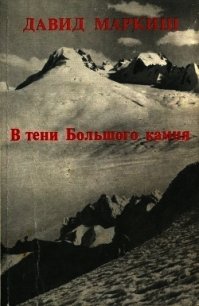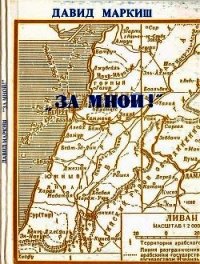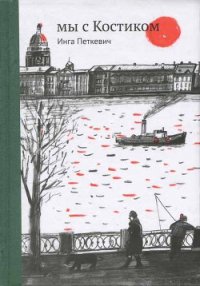Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (книги онлайн полные .txt) 📗
В не слишком широкий круг служебных обязанностей Степана Петровича входил, по договоренности с начальником Еврейского отдела КГБ генерал-майором Лукомцевым, догляд за тремя сотнями евреев, эмигрировавших в разное время из Советского Союза и просящихся теперь обратно. Людей этих, обивавших порог советского посольства, следовало держать, по указанию Лукомцева, в постоянном напряжении, не говоря им ни «да», ни «нет», а и говоря «нет» оставлять, все же, малую надежду на грядущее «да». Их судьба целиком зависела, разумеется, от Москвы, но они желали видеть верховную власть в Степане Петровиче Удалове, и он с ними на этот предмет не спорил и снисходительно их не разубеждал. Все три сотни были послушны и преданы Степану Петровичу чрезвычайно. За один лишь туманный намек на получение въездной визы в СССР каждый из них готов был по указанию Степана Петровича совершить героический поступок: устроить общественный скандал, украсть, убить. Ради этого, собственно, их и держали на коротком поводке в Вене, под рукой. Из десятка оперативных планов по их использованию, разработанных ведомством Лукомцева, Степану Петровичу больше всего нравился вот какой: евреи с женами и детишками захватывают американский культурный Центр, берут заложников и направляют Президенту послание с просьбой походатайствовать перед Брежневым, чтоб он учел их искреннее раскаяние, простил ошибки и пустил обратно в Россию. Текст обращения хранился в личном сейфе Удалова, в папке под кодовым названием «Маятник».
Подшефные евреи Удалова были в прошлом людьми торговыми, либо без определенных занятий, перебивавшимися в Вене с хлеба на воду. О каждом из них Степан Петрович посылал запрос в Москву, и через месяц-другой получал подробное досье, из которого можно было узнать о ходатае многое или почти все: где, чем и как торговал в СССР, имел ли судимости, состоял ли на психиатрическом учете, чем занимался после эмиграции — в Израиле или в Америке, не позволял ли себе там высказываний или действий, направленных против Советской власти. Оперативные донесения из стран иммиграции были многочисленны и подробны: Лукомцев с аппаратом не зря занимал целый этаж в Большом доме.
Досье Вадима Михайловича Соловьева, полученное с последней диппочтой, занимало Степана Петровича. «Без определенных занятий, — читал Степан Петрович, — распространялся в Самиздате ограниченно, повторной проверкой в активных связях с врагами народа, порочащими советский государственный строй, не уличен. Отец — русский, мать — полуеврейка. В Риме и Нью-Йорке не проявлялся. В донесении кинорежиссера Кирилла Волоха (Ефима Рабиновича) из Парижа охарактеризован как „умеренный“. В Иерусалиме крестился. Высылка из СССР с использованием израильского канала осуществлена по ошибке следователя второго ранга майора Середюка». К досье была приложена машинописная копия повести Соловьева «Мощи», которую Степан Петрович пролистал безо всякого интереса, не обнаружил там ничего увлекательного и был этим даже несколько разочарован: он ожидал от самиздатчика большего.
Самиздатчик, однако, требовал особого подхода — иного, чем торговцы пивом и мануфактурой, изрядно надоевшие Степану Петровичу. Удалов не сказать, чтоб специально готовился к встрече, назначенной им Вадиму Соловьеву, — но продумал все же несколько вариантов разговора с писателем без определенных занятий. Предстоящая беседа с ошибочно высланным Соловьевым, не придумавшим ничего лучшего, как креститься в жидовском Израиле, обещала быть занимательной. Что же касается майора Середюка — Степан Петрович был уверен, что следователь второго ранга предпримет все от него зависящее, чтобы не допустить возвращения Вадима Соловьева в СССР. Ну, ошибся следователь, это со всяким может случиться! Но репатриационная виза Соловьеву означала нежелательное шевеление старого дела, возможные служебные осложнения и даже выговор, скорее всего устный… Степан Петрович Удалов никогда прежде не встречал человека, высланного из СССР по ошибке, и даже не слышал о таком забавном курьезе.
Однако, и возможность положительного решения не следовало отметать категорически. Кто он такой, собственно, этот Середюк? Кто его поддерживает? Найдется, наверняка, какой-нибудь капитан, метящий на его место. А если вся эта дурацкая история дойдет до Лукомцева — тут уж вовсе неизвестно, как обернется дело: вдруг там, наверху, решат, что выгодно козырнуть перед американцами либерализмом по отношению к творческой интеллигенции.
Поразмыслив, Степан Петрович решил встретиться с Вадимом Соловьевым у себя дома и потолковать с ним, так сказать, по-свойски, по-отечески.
Вадим явился точно в назначенное время — худой, длинный, в холодной, не по сезону, куртке. Раздевшись и тщательно вытерев ноги в передней, украшенной оленьими рогами и гравюрами с изображением охотничьих сцен, он по блестящему паркету прошел в хозяйский кабинет.
— Присаживайтесь, Вадим Михайлович! — Удалов указал на массивное кожаное кресло перед письменным столом. — Заявление ваше я получил, навел кое-какие справки. Вы, значит, хотите вернуться на родину… Чаю, кофе? Рюмку коньяку? — он энергично потряс старинным настольным колокольчиком, вызывая служанку.
— Я хотел бы вернуться, если это возможно, — сказал Вадим Соловьев, старательно подбирая слова. — Я не по собственной воле уехал. Мне рассказывали, что несколько человек получили разрешения.
— Я понимаю вас… — Удалов наклонил голову к плечу, и Вадим Соловьев увидел на его макушке аккуратно причесанные рыжеватые волосы. — Конечно, писатель должен жить среди своего народа. Я читал ваши «Мощи» — очень своеобразная вещь.
Вадим Соловьев быстро, остро взглянул на Удалова — не подлавливает ли его хозяин, не издевается ли. До озноба, до онемения пальцев страшно было слышать такие приятные вещи от советского начальника, держащего в руках его, Вадима Соловьева, судьбу.
— Спасибо… — выдавил, наконец, Вадим. — Я, вообще-то, пишу психологическую прозу, характеры…
— Да-да! — с подъемом поддержал Удалов. — Мы знаем, что вы не антисоветчик, Вадим… Можно просто «Вадим»? Не обидитесь? Ну и прекрасно.
— Вы думаете, мне разрешат вернуться? — спросил Вадим Соловьев, стараясь говорить ровным голосом.
— Мне потребуется проверить еще кое-какие факты, — поглаживая подбородок, неопределенно сказал Удалов, — навести дополнительные справки. За ошибки, разумеется, следует расплачиваться. — Вспомнив майора Середюка, он чуть заметно улыбнулся. — Но вы, сколько нам известно, уже хлебнули горя… Вы ведь много ездили, много видели, не так ли?
— Да, — вздохнув, согласился Вадим Соловьев. — Это было…
— Ну, вот видите! — оживился Удалов. — Ваша история многим, многим может послужить примером. — Он снова вспомнил незадачливого Середюка и улыбнулся уже открыто. — Я бы на вашем месте написал статейку для газеты, для «Известий», скажем, о вашем горьком опыте.
— Это обязательно? — поморщился Вадим Соловьев. — Мне бы не хотелось…
— Это существенно облегчит ваше положение, — твердо сказал Удалов. — И кому ж писать, если не вам, писателю? — он протянул Вадиму хрустальную вазочку с круглыми конфетами, завернутыми в золотую бумажку.
— Знаете, — сказал Вадим Соловьев, беря конфету, — все то, что случилось — это, скорее, материал для рассказа, чем для газетной статьи.
— Может быть, может быть, — сказал Удалов. — Вам видней… Но мы, — он подчеркнул мы, — заинтересованы в том, чтобы такая статья появилась. Допустим, вам трудно ее написать или, вернее, вы боитесь, — теперь он подчеркнул боитесь, — что ваши московские друзья вас за нее осудят. Но, если Париж, как говорится, стоит обедни, то и Москва стоит такой статьи. Или давайте сделаем так: я вам дам готовый текст, а вы его только подправите, отредактируете. А?
Вадим Соловьев молчал, уставившись на свое заявление, лежавшее на столе перед Удаловым.
— Вы ведь вот крестились в Иерусалиме, — журчливо продолжал Степан Петрович. — Вы ж не будете меня убеждать, что никак не могли обойтись без купели и всего этого реквизита! Верите в Бога — ну и верьте на здоровье: не вы первый, не вы последний… Нет, Вадим, вы мне не говорите: вы крестились потому, что вам нужна была помощь, — и вам помогли. Верно? Ну, вот. — Удалов не спеша и с видимым наслаждением отхлебнул кофе из чашечки и продолжал: — Оттого, что вас обрызгали водой, ваша вера стала крепче? Вряд ли. Вы ведь умный человек, так мне и из Москвы о вас сообщили. Значит, вы там, в Иерусалиме, трезво оценили создавшееся положение и пошли на маленькую уступку — нет-нет, не совести, это ни в коем случае, совесть здесь не при чем — а реальной действительности. А если б евреи предложили вам сделать обрезание и за это помочь в вашем деле — вы на это пошли бы? А? Если б у вас не было другого выхода?