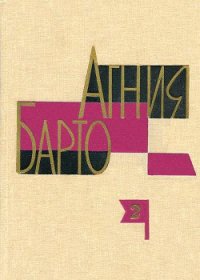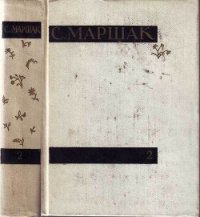Том 4. Солнце ездит на оленях - Кожевников Алексей Венедиктович (бесплатные полные книги .txt) 📗
Молодые жители поселка еще работали на постройке железной дороги, а старики, оставшиеся дома, сами еле-еле содержали себя; помочь Луговым ничем не могли.
Из распределения обязанностей, как задумала его Катерина Павловна, ничего не вышло. Всем, и даже больному доктору, приходилось много и без разбора работать. Правда, жена и дочь постоянно говорили ему: «Ты не ходи, полежи, мы сделаем без тебя». А доктор отговаривался: «Спасибо за любовь и заботу! Но жить я стану по-лопарски. Вы замечали, как много двигаются они. Человек простужен, кашляет, а все равно идет на охоту, на рыбалку. И для меня это полезней, чем лежать в тупе и дышать вековым смрадом». И доктор, как здоровый, охотился, рыбачил, добывал дрова, носил воду. И часто-часто напевал что-нибудь, иногда незнакомое, даже бессловное.
— А ты, папа, сильно переменился, — сказала ему однажды Ксандра.
— К лучшему, к худшему? — Отец переставил свою самодельную табуретку поближе к дочери.
— Здесь «лучше» и «хуже» не подходит. Я не знаю, как назвать, что с тобой. Говорить стал меньше, тише. Начал петь вроде нашего проводника Коляна.
— Перенял здешние повадки, одним словом, олопарился, — подсказала Катерина Павловна.
— Вот, вот, — обрадовалась Ксандра удачному слову.
— Верно, кое-что усвоил здешнее, — согласился доктор. — Но не от лопарей, а вместе с ними. Причина в общей обстановке. Она научила и меня и лопарей. Стал говорить меньше, тише. А с кем тут громыхать, кричать? Хорошо, что полностью не разучился говорить. Запел от одиночества. И лопари поют от того же. Лопарь часто бывает один: пасет оленей, рыбачит, охотится. Поговорить не с кем: жена, дети, соседи далеко. Начнет говорить один за всех, и услышит это кто-нибудь, — знаете, что пойдет по всей Лапландии? «Заболел, совсем рехнулся человек, разговаривает сам с собой. Разговаривает с женой, с детишками, а они все далеко-далеко». К примеру, заговори я с вами, когда я здесь, а вы на Волге, — ко мне ни один больной не пришел бы.
И совсем другое дело — песня. Петь одному, для себя можно сколь угодно, это никто не считает странным. В песне можно поговорить и с родными и с друзьями, которые далеко или даже умерли. Песне, как сказке, можно все. Вот лопари и мурлычут взамен разговора. Для них песня — это дума вслух, излияние души, разговор человека с самим собой. Песня для них — друг, спутник, собеседник. Лопарь редко поет готовые, отчеканенные, отшлифованные временем песни; он составляет свои и поет для себя, обычно негромко, мурлыча. Пусть эти песни порой корявы, зато душа в них не чужая, а своя. Споет и тут же забудет. Когда я просил повторить песню слово в слово, мне говорили: «Забыл» — и пели по-новому. Когда я убеждал, что песни надо запоминать, певцы удивлялись: «Зачем? Я в любой час могу спеть новую, еще лучше». И безжалостно развеивали свои песни на ветер, на забвение. Если некоторые из них застревают в чьей-то памяти, то повторяют их, чаще всего обновляя. Песня постоянно меняется, дает новые побеги, цветет по-иному, ветвится, как оленьи рога. Здесь вся природа подвижная, певучая: ветры, пурги сильные, реки порожистые, с водопадами, озера бурные. И человеку не петь, молчать — это странно, почти ненормально. Запел и я. Это здоровое проявление здоровой души. Откровенность души. Почти каждый лопарь за свою жизнь составит целую одиссею, но промурлычет только для себя, затем ее унесет ветер, сотрет забвение. Жалко!..
— Я буду записывать лопарские песни, — вызвалась Ксандра.
— Для этого надо жить здесь. И долго.
— Вот кончу гимназию и приеду сюда работать.
— Кем?
— Учительницей. Из гимназии посылают в учительницы. Здесь, наверно, полно неграмотных.
— Неграмотных тебе хватит, только учить их негде: школ-то нету.
— А еще кто нужен здесь?
— Врачи, фельдшера, ветеринары… А в первую очередь — революция.
— Вот и приеду делать революцию.
— Это, доченька, трудно. Везде трудно, здесь же особенно. Лапландия пока что хороша только для глаз, а жить в ней тяжело.
— Мне и не надо легкого, не хочу. Легко жить — пусто, неинтересно. — За то время, что провела в Лапландии, Ксандра поняла, что прелесть, радость жизни в чередовании легкого и трудного, приятного и неприятного; тепло особенно мило после холода, насыщение — после голода, отдых — после усталости. — Обязательно приеду сюда, сделаю революцию, буду всех учить, лечить.
— Ишь расхрабрилась! — одновременно и с гордостью за дочь и с усмешкой над нею сказала Катерина Павловна.
— Не побоюсь, увидишь, — начала уверять Ксандра. — Могу дать клятву хоть сейчас.
— Не-не-не!.. — остановил ее отец. — Клятвами нельзя бросаться, клятва — дело серьезное. Кончай гимназию, сейчас это — главное для тебя. Малограмотная кому ты нужна? Чтобы делать — надо уметь. Неумеха — везде только помеха.
— Папочка, я давно хочу спросить тебя… — Ксандра начала ластиться к отцу. — Ты не рассердишься?
— За спрос, говорится, не дерут волос. Спрашивай!
— А ты скажешь правду? Взрослые часто обманывают маленьких. Ты не обманывай меня. Я уже взрослая — все пойму.
— Ну, спрашивай!
— За что сослали тебя?
— За революцию.
И рассказал, что можно было не скрывать. Со студенческих лет он связан с революционным движением. Когда началась война с Германией, его мобилизовали, но не отправили на фронт, а назначили в военно-медицинскую комиссию, которая сортировала военнообязанных: годен, не годен. От своей революционной организации он получил задание браковать людей, нужных революции. Ему удалось выручить несколько человек. Но потом нашелся предатель, забракованных снова подвергли медицинскому осмотру, признали годными и отправили на фронт. А Сергея Петровича — в ссылку на пять лет.
— Это честно? — спросила дочь.
— Что именно?
— Браковать здоровых. Одних — на фронт, на смерть, а других, таких же, — совсем освобождать от войны.
— Эти, другие, освобожденные от войны, тоже воюют. Их освобождали от одной войны ради другой, более важной, чем с немцами.
— С кем же?
— С царизмом. Этот враг страшней Германии. Россия еще не живала без князей и царей, они — вековечный, тысячелетний враг русского народа. Надо сперва уничтожить царизм. Потом освобожденная Россия легко справится с любым внешним врагом.
Этот разговор прорвал плотину осторожности и умолчания, которая была между отцом и дочерью из-за разницы в летах, после него наступила взаимная откровенность.
С наступлением осени, когда землю прихватили заморозки, а снежная пороша затрусила ее, ездить стало легче, и к доктору снова потянулись больные. Каждый день — три, четыре полных нарты. Приезжали семьями, и все, даже вполне здоровые, обязательно хотели показаться. А доктору самому давно было надо ложиться в больницу. Катерина Павловна настаивала:
— Отказывай. Здоровых-то совсем не к чему осматривать.
— А без осмотра как я узнаю, здоров он или болен.
— Не жалуется, значит, здоров.
— Это ничего не значит.
И верно, бывало, не жаловались, а были очень больны, жаловались на одно, а болели другим. Многие на вопрос: «Чем болен?» — отвечали: «Ты доктор, гляди сам» — и без спроса, надо или не надо, сдирали с себя одежду.
Катерина Павловна попробовала отказывать самовольно. Но Сергей Петрович скоро узнал об этом и запретил.
— Ты убиваешь себя, — упрекнула Катерина Павловна.
— Что же делать? Такая должность. Но отказывать, пока сам на ногах, не могу. И особенно здесь. Один отказ здоровому отпугнет сотню больных, повернет их к знахарям. — Доктор сильно закашлялся.
К нему подскочила Ксандра с полотенцем:
— Вот сплюнь сюда. И не волнуйся.
При больных Ксандра не отходила от отца и щебетала неугомонно:
— Что приготовить, папочка? Что подать? Давай я сделаю.
Она зажигала спиртовку, кипятила воду, инструменты, подавала отцу вату, йод, спирт, промывала и бинтовала раны. И ужасно жалела, что не может принять больного одна. И ругмя ругала себя, что по глупости упустила столько времени, такие возможности, когда могла бы вполне сделаться фельдшером.