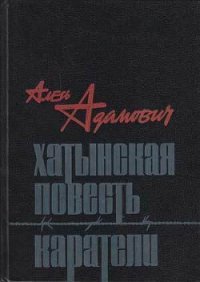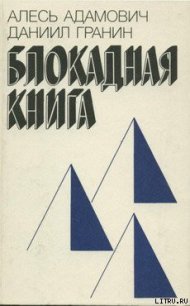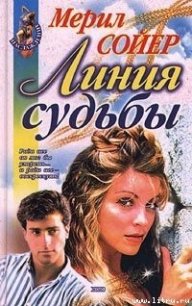Хатынская повесть - Адамович Алесь Михайлович (полная версия книги txt) 📗
Завораживающее что-то в этой дикой ходьбе по своему и по чужому следу. Мы уже дорожку пробили в торфе, мы и немцы. Сколько же мы кружили? И сколько нам еще ходить?.. Нет, мы уже не ходим. Ноги сладко вытянулись, они гудят, как пропеллер, а закроешь глаза, так и впрямь кажется, что тебя поднимает, что ноющее, дрожащее каждой мышцей тело твое покачивается над землей. Тошнота усиливается от такого покачивания, торопишься открыть глаза. Мы лежим в той самой, заросшей лозняком, канаве, нас тут оставили. Костя-начштаба предложил Косачу спрятать несколько человек и посмотреть, как идут немцы, сколько их, что у них и чего ждать от них. Начштаба сам остался с нами. Четверо нас в этой канаве. Мы еще видим наших косачевцев, смотрим, как они уходят. Много носилок, слишком много. Люди едва ноги переставляют, пошатываются от усталости, от жары, от чада. Живых душит, бьет кашель. Когда лежишь спокойно, кашель не так мучит, но и нас он не покидает, особенно тучного Пухова. Костя спрашивает время от времени:
– Ну, не надоело?
Человек рукой, кепкой пытается заглушить кашель, припадает лицом к земле, виновато смотрит мокрыми красными глазами. Оправдывается:
– Воды бы.
– Сейчас поднесут немцы, – говорит Костя-начштаба, – ползи-ка ты, дядя, по канаве вон туда, подальше.
Но тут закашлялся Зуенок, а затем и сам начштаба.
– Все равно ползи, – говорит Костя, – хватит тут и без тебя хрипунов.
Тучный партизан пополз, не переставая давиться кашлем, а мы ему показываем: еще слышно, дальше, еще дальше!
Лежа можешь хотя бы глаза протереть. Когда не мог, когда заняты были руки, казалось, что только протереть их хорошенько, снять эту щекочущую слезу и станет легче. Платка у меня, разумеется, нет, а все остальное такое измазанное грязью, сажей, что к глазам не поднесешь. Я вытащил низ нательной рубахи, желтой и соленой, – самое чистое, что у меня есть, – и ею тру глаза. А солнце плавится в шевелящемся дыму, тоже воспаленное, оно с каким-то зловещим синюшным отливом. Солнце жжет, палит, а во мне озноб. Кажется, что и в воздухе, прокаленном, продымленном, разлит этот озноб, спины торфяных холмов-зверюг дрожат мелко, непрерывно…
Вот они – передние немцы, дозор! Это всегда особенное чувство – из засады смотреть, как появляются перед тобой враги. Вы никогда один одного не видели, не знали, что другой есть на земле, но где-то что-то сложилось так, а не иначе, и – нет теперь людей, более связанных друг с другом, чем вы. Одна жизнь на двоих, одна смерть на двоих – делите!
Но мы не засада, мы сами себя посадили в ловушку. Тут и останемся, нас убьют в этой канаве, если немцы вдруг решат осмотреть ее или мы обнаружим себя кашлем, который начинает вдруг клокотать во мне, в Зуенке, в Косте. У нас по очереди делаются испуганные и виноватые лица. Мы бросаемся лицом, ртом на руку, в землю и не кашляем уже, а тихо гудим, стонем.
В зеленых мундирах или в пятнистых накидках, в касках идут немцы. По одному и группами. И все смотрят на лозняк, настороженно держатся, отступая от кустов. Они оттуда ждут нашего появления? Вот оно что! Немцы считают, что загнали нас в этот лозняк (мы уже давно не отзываемся на их выстрелы), что мы засели в лесу. Ходят и дожидаются, когда мы выбежим на открытую местность. Вот один остановился и застрочил из автомата в глубину леса. И сразу другой, третий выстрелили из винтовок. Кустарник обстреливают. В нашу сторону они не смотрят. Много их, больше сотни вывалило из-за края лозняка, и все новые появляются, идут по направлению к нашей канаве. Те, что в середине колонны, не смотрят на кусты, не стреляют: несут раненых, убитых. И так же, как мы, на плащах, на одеялах. По четыре, по шесть человек возле ноши, спотыкаются, мешают друг другу. Водит их в стороны. Слышны вялые голоса. Все ближе подходят немцы, и их кашель, спасительный, громкий, слышен нам. Свой мы зажимаем в себе яростно – кто ладонями, кто рукавом. Вот уже и последние немцы появились из-за кустарника. Эти сбились в плотные группы и не на кусты смотрят, а назад оглядываются, ждут нас сзади. Весь вид их показывает, что не они нас, а мы их преследуем. Передние убеждены, что загнали нас в кусты, что преследуют нас, а этим кажется, что партизаны теснят, гонят их. Повернется, построчит из автомата назад и догоняет своих, на ходу вытаскивая из сапога или из сумки новый «рожок» с патронами.
Сначала мы все ждали, что нас обнаружат. Но вот они совсем рядом: кашляют, разговаривают, стреляют метрах в пятидесяти от нас. Наша канава упирается прямо в лозняк, и немцам приходится спускаться, пересекая ее. Все подступило вплотную, кажется, что идут прямо на нас – вот-вот на голову наступят. И все в то же время отдалилось, точно не ты это лежишь здесь или ты, но не теперешний, а было это когда-то с тобой и уже прошло, минуло и только вспоминается до жути реально…
Ушли немцы со своими ранеными, со своими убитыми, вслед нашим ушли, и мы стали ждать снова появления партизан, Косача. Теперь мы своих видим также со стороны, и хотя другими глазами, подругому, с радостным чувством возвращения к самому себе, но опять показалось на миг, что и это лишь воспоминание о чем-то происходившем с тобой давным-давно. Подполз, присоединился к нам и Пухов. Он все кашляет, но теперь открыто, приветствуя нас, жизнь, безопасность своим радостным, уже не стесненным, не сдерживаемым кашлем. Костя-начштаба постучал кулаком по его толстой спине, но и сам закашлялся и засмеялся.
Мы направляемся к своим, помахали им оружием и теперь идем навстречу. Вошли в колонну, слились с нею, с ее движением. Теперь нам весело рассказывать, как близко были немцы, как мы их рассматривали и какие они.
И снова идем вокруг леса, унося своих раненых, убитых, настигая врагов и уходя от них, и уже не верится, что было что-нибудь, кроме этого бесконечного хождения под огромным безжалостным солнцем, и что будет, возможно, что-то другое. Становишься все более безразличным, далеким самому себе. Нас, живых, точно меньше делается, а тех, кого несем – раненых, убитых, – больше. Уже нет подмены, уже и шестерым тяжело тащить мертвую ношу или раненого.
Солнце почти завершило свой полукруг, оставляя нас одних. Жара спала, но усталость большая, хотя, кажется, и невозможно устать сильнее. Торфяной дым сделался гуще, ядовитее, кашель душит всех, раненых тоже. Только убитые тихо лежат в провисших гамаках-одеялах, на которых мы их носим.
И по мере того, как красное, с дымным, синюшным ободком солнце спускалось за темнеющий край земли, за торфяные холмы, а небо поднималось до кое-где уцелевших звезд, из черной земли начинал выступать, выделяться, начал трепетать, дрожать свой свет – зловещий, нутряной. Он тоже подсинен торфяным дымом, этот встающий снизу воспаленный свет земляного пожара. Он уже везде, все более широким кольцом замыкает и нас, и лес, вокруг которого мы ходим, и невидимых, где-то постреливающих немцев. Уже не знаешь, где они, те тропы, по которым сюда прошли мы, немцы, по которым можно вырваться назад или вперед. Огонь везде, и он наступает. Глянцевые отблески его на лозняке, на наших лицах и лицах мертвых. С каждым кругом те убитые, которых и мы, и немцы оставили на земле – власовцы, – в чем-то меняются, всякий раз они по-другому нас подстерегают. Разбросанно белеют трупы, они то ближе (начинает казаться) друг к другу, то расползаются, пока мы и немцы делаем следующий круг. Потом замечаешь, что они на том же самом месте и все те же. Отмечаешь это с бессмысленным, случайным интересом человека, который устал смертельно. Мы все чаще останавливаемся: опускаем на землю раненого и сами падаем возле него как убитые. А потом он голосом, рукой будит нас по общей команде. Кто-то там впереди, Косач, Костя-начштаба, кто-то распоряжается, но уже через раненых – они теперь самые свежие, живые, не замученные, они нас будят, толкают. И мы снова несем их, несем убитых, вяло и тяжело. Что-то в это время делают наши враги, наверное, такие же вымотанные, делают то же, что и мы, – уходят от нас и догоняют нас. И мы и они слишком выпотрошены, измотаны, чтобы остановиться и завязать бой.