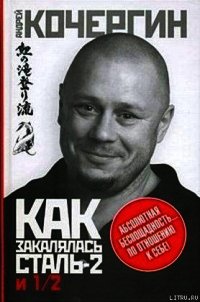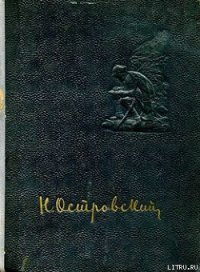Как закалялась сталь - Островский Николай Алексеевич (лучшие книги читать онлайн бесплатно .txt) 📗
На кухонном столе резала свеклу Одарка, жена путевого сторожа, взятая поваром в помощники. Природа дала далеко не старой сторожихе всего вволю: по-мужски широкая в плечах, с богатырской грудью, с крутыми могучими бедрами, она умело орудовала ножом, и на столе быстро росла гора нарезанных овощей.
Одарка кинула на Павла небрежный взгляд и недоброжелательно спросила:
– Ты что, к обеду мостишься? Раненько малость. От работы, паренек, видно, улепетываешь. Куда ты ноги-то суешь? Тут ведь кухня, а не баня, – брала она в оборот Корчагина.
Вошел пожилой повар.
– Сапог порвался вдребезги, – объяснил свое присутствие на кухне Павел.
Повар посмотрел на искалеченный сапог и кивнул головой на Одарку:
– У нее муж наполовину сапожник, он вам может посодействовать, а то без обуви погибель.
Слушая повара, Одарка пригляделась к Павлу и немного смутилась.
– А я вас за лодыря приняла, – призналась она. Павел прощающе улыбнулся. Одарка глазом знатока осмотрела сапог.
– Латать его мой муж не будет – не к чему, а чтобы ногу не покалечить, я принесу вам старую калошу, на горище у нас такая валяется. Где ж это видано так мучиться! Не сегодня-завтра мороз ударит, пропадете, – уже сочувственно говорила Одарка и, положив нож, вышла.
Вскоре она вернулась с глубокой калошей и куском холста Когда завернутая в холстину и согретая нога была умещена в теплую калошу, Павел с молчаливой благодарностью поглядел на сторожиху.
Токарев приехал из города раздраженный, собрал в комнату Холявы актив и передал ему невеселые новости.
– Всюду заторы. Куда ни кинешься, везде колеса крутят и всё на одном месте. Мало мы, видно, белых гусей повыловили, на наш век их хватит, – докладывал старик собравшимся. – Я, ребятки, скажу открыто: дело ни к черту. Второй смены еще не собрали, а сколько пришлют – неизвестно. Мороз на носу. До него хотя умри, а нужно пройти болото, а то потом землю зубами не угрызешь. Ну, так вот, ребятки, в городе возьмут в «штосе» всех, кто там путает, а нам здесь надо удвоить скорость. Пять раз сдохни, а ветку построить надо. Какие мы иначе большевики будем – одна слякоть, – говорил Токарев не обычным хриповатым баском, а напряженно-стальным голосом. Блестевшие из-под насупленных бровей глаза его говорили о решительности и упрямстве. Сегодня же проведем закрытое собрание, растолкуем своим, и все завтра на работу. Утром беспартийных отпускаем, а сами остаемся. Вот решение губкома, – передал он Панкратову сложенный вчетверо лист.
Через плечо грузчика Корчагин прочел:
«Считать необходимым оставить на стройке всех членов комсомола, разрешив их смену не раньше первой подачи дров. За секретаря губкомола
Р. Устинович».
В тесном бараке не пройти. Сто двадцать человек заполнили его. Стояли у стен, забрались на столы и даже на кухню.
Открыл собрание Панкратов. Токарев говорил недолго, но конец его речи подрезал всех:
– Завтра коммунисты и комсомольцы в город не уедут.
Рука старика подчеркнула в воздухе всю непреложность решения. Жест этот смахнул все надежды вернуться в город, к своим, выбраться из этой грязи. В первую минуту ничего нельзя было разобрать за выкриками. От движения тел беспокойно замигала подслеповатая коптилка. Темнота скрывала лица. Шум голосов нарастал. Одни говорили мечтательно о «домашнем уюте», другие возмущались, кричали об усталости. Многие молчали. И только один заявил о дезертирстве. Раздраженный голос его из угла выбрасывал вперемежку с бранью:
– К чертовой матери! Я здесь и дня не останусь! Людей на каторгу ссылают, так хоть за преступление. А нас за что? Держали нас две недели – хватит. Дураков больше нет. Пусть тот, кто постановлял, сам едет и строит. Кто хочет, пусть копается в этой грязи, а у меня одна жизнь. Я завтра уезжаю.
Окунев, за спиной которого стоял крикун, зажег спичку, желая увидеть дезертира. Спичка на миг выхватила из темноты перекошенное злобной гримасой лицо и раскрытый рот. Окунев узнал: сын бухгалтера из губпродкома.
– Что присматриваешься? Я не скрываюсь, не вор. Спичка потухла. Панкратов поднялся во весь рост.
– Кто это там разбрехался? Кому это партийное задание – каторга? – глухо заговорил он, обводя тяжелым взглядом близстоящих. – Братва, нам в город никак нельзя, наше место здесь. Ежели мы отсюда дадим дёру, люди замерзать будут. Братва, чем скорее закончим, тем скорее вернемся, а тикать отсюда, как тут одна зануда хочет, нам не дозволяет идея наша и дисциплина.
Грузчик не любил больших речей, но и эту, короткую, перебил все тот же голос:
– А беспартийные уезжают?
– Да, – отрубил Панкратов.
К столу протиснулся парень в коротком городском пальто. Летучей мышью кувыркнулся над столом маленький билет, ударился в грудь Панкратова и, отскочив на стол, встал ребром.
– Вот билет, возьмите, пожалуйста, из-за этого кусочка картона не пожертвую здоровьем!
Конец фразы заглушили заметавшиеся по бараку голоса:
– Чем швыряешься?
– Ах ты, шкура продажная!
– В комсомол втерся, на тёплое местечко целился!
– Гони его отсюда!
– Мы тебя погреем, вошь тифозная!
Тот, кто бросил билет, пригнув голову, пробирался к выходу. Его пропускали, сторонясь как от зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь.
Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек коптилки. Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку.
В лесу прозвучал выстрел. От ветхого барака в темноту леса нырнули конь и всадник. Из школы и барака выбегали люди. Кто-то случайно наткнулся ни дощечку из фанеры, засунутую в щель двери. Чиркнули спичкой. Закрывая колеблющиеся от ветра огоньки полами одежды, прочли:
«Убирайтесь все со станции туда, откуда явилились. Кто останется, тому пуля в лоб. Перебьем всех до одного, пощады никому не будет. Срок вам даю до завтрашней ночи».
И подписано:
«Атаман Чеснок».
Чеснок был из банды Орлика.
В комнате Риты на столе незакрытый дневник.
«2 декабря
Утром выпал первый снег. Крепкий мороз. Налестнице встретилась с Вячеславом Олыиинским. Шли вместе.
– Я всегда любуюсь первым снегом. Мороз-то какой! Одна прелесть, не правда ли? – сказал Олыиинский.
Я вспомнила о Боярке и ответила ему, что мороз и снег меня совершенно не радуют, наоборот, удручают. Рассказала почему.
– Это субъективно. Если ваши мысли продолжить, то надо будет признать недопустимым смех и вообще проявление жизнерадостности во время, скажем, войны. Но в жизни этого не бывает. Трагедия там, где полоска фронта. Там ощущение жизни придавлено близостью смерти. Но даже и там смеются. А вдали от фронта жизнь все та же: смех, слезы, горе и радость, жажда зрелищ и наслаждений, волненье, любовь...
В словах Олыиинского трудно отличить иронию. Ольшинский – уполномоченный Наркоминдела. В партии с 1917 года. Одет по-европейски, всегда гладко выбрит, чуть надушен. Живет в нашем доме, в квартире Сегала. Вечерами заходит ко мне. С ним интересно говорить, знает Запад, долго жил в Париже, но я не думаю, чтобы мы стали хорошими друзьями. Причина тому: во мне он видит прежде всего женщину и уже только потом товарища по партии. Правда, он не маскирует своих стремлений и мыслей, – он достаточно мужествен, чтобы говорить правду, и его влечения не грубы. Он умеет их делать красивыми. Но он мне не нравится.
Грубоватая простота Жухрая мне несравненно ближе, чем европейский лоск Олыиинского.
Из Боярки получаем короткие сводки. Каждый день сотня сажен прокладки. Шпалы кладут прямо на мерзлую землю, в прорубленные для них гнезда. Там всего двести сорок человек. Половина второй смены разбежалась. Условия действительно тяжелые. Как-то они будут работать на морозе?... Дубава уже неделю там. В Пуще-Водице из восьми паровозов собрали пять. К остальным нет частей.
На Дмитрия создано Управлением трамвая уголовное дело: он со своей бригадой силой задержал все трамвайные площадки, идущие из Пуще-Водицы в город. Высадив пассажиров, он нагрузил платформы рельсами для узкоколейки. Привезли девятнадцать площадок по городской линии к вокзалу. Трамвайщики помогали вовсю.
На вокзале остатки соломенской комсомолии за ночь погрузили, а Дмитрий со своими повез рельсы в Боярку.
Аким отказался ставить на бюро вопрос о Дубаве. Нам Дмитрий рассказал о безобразной волоките и бюрократизме в Управлении трамвая. Там наотрез отказались дать больше двух площадок. Туфта прочел Дубаве нравоучение:
– Пора бросить партизанские выходки, теперь за это в тюрьме насидеться можно. Будто нельзя договориться и обойтись без вооруженного захвата?
Я еще не видела Дубаву таким свирепым.
– Почему же ты, бумагоед, не договорился? Сидит здесь, пиявка чернильная, и языком брешет. Мне без рельсов на Боярке морду набьют. А тебя, чтобы ты тут под ногами не путался, на стройку надо отослать, Токареву на пересушку! – гремел Дмитрий на весь губком.
Туфта написал на Дубаву заявление, но Аким, попросив меня выйти, говорил с ним минут десять. Туфта от Акима выскочил красный и злой.