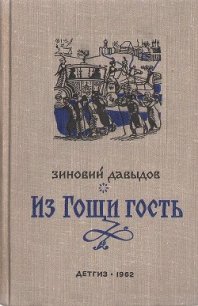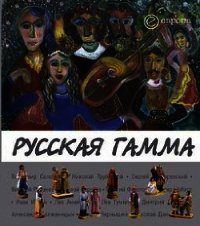Русская служба и другие истории (Сборник) - Зиник Зиновий Ефимович (читать книги без .TXT) 📗
Чем запутанней в ее исповедальных монологах становилась паутина препятствий, мешавшая любовникам превратиться в животное о двух спинах, тем настойчивей становились мои поползновения подменить под простыней героя ее треволнений. Мелодраматическая достоевщина нагромождалась с каждой нашей встречей: угроза самоубийства жены перемежалась остракизмом детей; он географически уходил от Джоан, чтобы быть ближе к ней духовно; он появлялся у Джоан, чтобы вновь ощутить жалость к несчастным, убогим и некрасивым (имелась в виду супруга — окольный комплимент Джоан). Он намеренно оскорблял Джоан, чтобы вызвать в ней чувство ненависти к себе и, тем самым, раскрепостить и освободить ее от себя; но как только окончательный разрыв казался неминуемым, он вновь возникал на ее горизонте, чтобы заново разбередить «незаживающую рану секса», как она выражалась. При этом она быстрым движением дотрагивалась до моей руки и на мгновение сжимала мою ладонь в своих длинных пальцах — в некоем проникновенном масонском рукопожатии: как бы в жесте признательности за интим наших разговоров, за душевную щедрость, способность понять и простить ее любовную интригу, как будто не он, а я был ее любовником, которому она изменяла с ним. У нее вообще была такая привычка: по-сестрински, по-родственному коснуться как бы невзначай локтя или колена или взять в руки твой указательный палец и весь разговор крутить его, как пуговицу. Она не отталкивала от себя с безоговорочной окончательностью, но выскальзывала, уклоняясь от каждой моей попытки перейти от касания к соприкосновению. «Не-а, — говорила она, в последний момент выпутываясь из моих рук, — начинается с поцелуев, а кончается чем?» И она употребляла свое лично-жаргонное словечко на этот случай: insertion. То есть: вложение. Или еще лучше: вставка. Она против неожиданных вставок в привычный текст нашего интима.
Эти фальшивые жесты задушевной интимности, дружеской близости и сестринской доверчивости доводили меня до умопомрачения. У нее были замашки гимназистки-динамистки. Однажды, под все ту же тягомотину о запутанности отношений с обожаемым существом, она стала переодеваться, собираясь в очередные гости, на светское сборище, party (куда ей в голову не приходило взять и меня за компанию: там была другая зона интима, другой клуб с иными конфидентами). Она все еще делала вид, что я ее бескорыстный поклонник, добрый друг и верный рыцарь, и не более того, чуть ли не родственник. Вытащив из шкафа очередное платье, она раздевалась, чтобы примерить его у меня прямо на глазах. Расстегнув лифчик, повернулась, ради формального приличия, ко мне спиной. Стояла она, однако, перед зеркалом в дверце шкафа, распахнутой в мою сторону. Раздеваясь и натягивая на себя платье, она продолжала свое вдохновенное чириканье про амурные перипетии с женатым монстром, глядя мне прямо в глаза сквозь зеркало. Значит, она знала, что я вижу ее тело в зеркале. Пока мои уста отзывались усложненным эхом на ее метания в опереточном либретто (отбила мужа у глупой жены), мои глаза не могли оторваться от ее миниатюрного бюста, расходящегося в смелость щедрых бедер. Созерцая этот наивный стриптиз, я должен был делать вид, что в зеркальном отражении вижу лишь ее губы и глаза. Но она снова и снова призывала без обиняков оценить очередной вариант своего вечернего одеяния, еле прикрывавшего в этот момент ее голизну и путающегося в нашем абсурдистском обмене репликами с очередным иезуитским ходом ее неутомимого в изощренности любовника, уклонявшегося от амурной повинности ссылками на фатальные семейные обстоятельства.
«Семейная жизнь — как советская власть: в своей фатальной неизменности приучает к тому, что слова важнее поступков», — выдавал я, отводя глаза от зеркала, очередной изощренный комментарий к беспросветной путанице ее банальной любовной интрижки. «Боясь претворить слово в дело, он имеет в виду одно, а подразумевает другое», — продолжал я, уставившись в восхитительный изгиб спины, переходящей в ложбинку ягодиц, виднеющихся из-под трусиков. «Сталин, между прочим, считал, что не существует мыслей без слов и поэтому каждое намерение словесно формулируется. Великому лингвисту всех времен и народов важно было доказать, что антисоветские мысли есть автоматически антисоветская пропаганда». Я наводил словесный туман, чтобы скрыть похотливый блеск в глазах, и подсовывал ей, как подачку, задушевную концепцию российской двойственности и двоемыслия, прикрывая этой концепцией пресловутое английское лицемерие ее банального до зевотной скуки адюльтера. Ей это льстило: заурядная афера с женатым мужчиной превращалась в метафизику раздвоенного сознания. Мне же льстило сознание того, что через интимничанье с ней я приобщаюсь, пускай заочно, к тому избранному меньшинству из тех, кого и следовало считать истинными англичанами.
Это была небольшая клика снобов, воображающих, что они живут в эдвардианской эпохе — до всяческих распадов империи, иммиграции пакистанцев, феминизма и запретов на курение в общественных местах. Они толпились одной кодлой в двух-трех частных клубах и пабах Сохо, и к ним было не подступиться. Они здоровались со мной сквозь зубы, скорее кивком головы, чем взглядом — только потому, что пару раз при мне, под экзальтированное «дарлинг», Джоан перечмокалась чуть ли не с каждым из них, взмахом руки представляя меня: «Му Russian confident, Zinik, you know… from Moscow». Опять Зиник из Москвы. Последний раз я был в Москве лет пятнадцать назад. Я стоял поодаль и завидовал фонетике их английского — отчетливой и скользящей, не разжимая рта, запутанной скороговорке.
Я порой дурно говорю по-английски не потому, что я плохо знаю этот язык, а потому, что не могу до конца представить себя англичанином, говорящим по-английски. Как не могу, скажем, переспать с женщиной, пока не представлю себе до конца, что я уже с ней переспал. Сама же попытка вообразить этот акт — ментальный онанизм. Язык — это оральный секс. То есть с языком, как с любовницей: или ты с ней спишь, или она не любовница. С женой же можно сохранять близость, не общаясь с ней постельно. С английским языком у меня в тот период были супружеские отношения. Это было непривычно. До приезда в Англию я не представлял себе разницы между супругой и любовницей, когда речь идет о близости. Дразнящая недоступность Джоан явно ощущалась и лингвистически в нашем общении, лишенном тех самых незначащих невнятностей и полубессмысленных разговорных полухмыков, что и отделяют родной язык от идеально выученного, старых знакомых от близких друзей, друзей — от любовников. Всего этого не понимая, я изгилялся в словесном нагромождении, усложняя мысль, надеясь, что через эту сложность и заумь я проберусь извилистым путем к ее дрожащей, горячей и влажной сути, ее «незаживающей ране», к ее беззащитности под суховатой дубленой кожей сорокалетней светскости. В бесконечном выматывающем разговоре я пил все больше и больше от нервозности (она приучила меня пить виски, разводя, по-английски, водой), и каждую нашу встречу мы усиживали чуть ли не литровую бутылку Famous Grouse. Моя рука блуждала от плеча к ее коленям, но, когда нужно было преодолеть еще одну решающую ступень интимности в позе и позиции, она выдавала свою классическую фразу про «вставки» и выставляла меня аккуратно за дверь. Я уходил под утро, измотанный и оглохший от собственных слов, с гудящей головой и тоскливой пустотой в сердце, ощущая свое тройное предательство: по отношению и к собственным мыслям, и словам, и поступкам.
По ее уклончивому взгляду я чувствовал, что мое присутствие на крикетном сборище было чем-то вроде той самой «вставки». Я был из другого текста. Из другого теста. Она закрутилась на месте, подхватив меня под руку, и стала разбрасывать свое стилизованное «darling» направо и налево без разбора, представляя меня с плохо скрытой нервозностью своим знакомым, всякий раз с паническим удивлением обнаруживая, что меня здесь так или иначе знает (как автора) почти каждый и в светских рекомендациях я не нуждаюсь. Как будто пытаясь скрыться за кулисы после провального эстрадного номера, она потянула меня в бар под тентом на задах лужайки, за зрительскими креслами. Впрочем, дело было, конечно же, не только в замешательстве при виде меня: если судить по ее бегающему взгляду и безостановочному кружению на месте, она явно кого-то разыскивала. Не трудно было догадаться — кого.