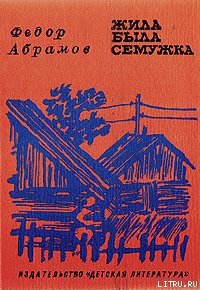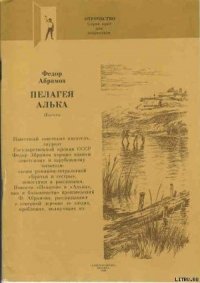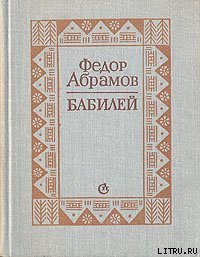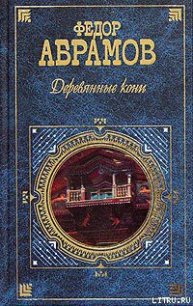Братья и сестры - Абрамов Федор Александрович (смотреть онлайн бесплатно книга .TXT) 📗
— Это ты, Марфинька, перед мужским видом не устояла, — пробовала съязвить Варвара.
Но Марфа даже бровью не повела.
— А через год, — продолжала она, — муженек просиделся да я все начисто продала, в последней рубахе осталась — только бы от решетки его спасти. Да еще пять лет потом долги у людей отрабатывала. Вот тебе и покрасовалась за продавцом…
Она так же неожиданно, как завела разговор, встала, отряхнулась:
— Пойдем, Варка. Сидим, языком треплем, кто за нас страдать будет?
Лукашин сидел, не двигаясь. Марфа шагала по лугу спокойным, размеренным шагом, и, глядя на ее необъятно широкие плечи, на какое-то мгновение заслонившие от него солнце, вдруг подумал: вот сейчас в этой женщине, такой суровой и непокладистой с виду, ему приоткрылось что-то столь большое и важное, без чего невозможно понять ни русского человека, ни того, что было и будет еще на русской земле…
В этот день он думал не только о Марфе, нескладная жизнь которой разбередила ему душу. У него было достаточно времени, чтобы подумать и о себе.
Лежа на подсыхающей кошенице и изредка отмахиваясь веткой от вялого, разморенного жарой комарья, он смотрел на работающих женщин, стариков и подростков и, кажется, впервые за все время пребывания в Пекашине почувствовал свою ненужность и бесполезность здесь. И дело было не в том, что он не мог, как они, в поте лица махать косой. Нет, дело было совсем в другом. Раньше он был твердо убежден, что, выбитый из строя на фронте, он делает здесь большое и нужное дело, — и временами даже гордился своими заслугами. Но вот уже месяц, как он почти ничего не делает, — ведь не считать же за работу его прогулки по бригадам да короткие беседы в минуту роздыха. А люди работали, да еще как работали!..
И вот сейчас, размышляя об этом, он вдруг остро почувствовал, что, в сущности, в Пекашине ничего бы не изменилось, даже если бы и вовсе не было его.
Другая, великая, неведомого доселе размаху сила двигала людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу. Она, эта сила, делала подростков мужчинами, заглушала голодный крик ребенка, и она же, эта сила, привела Анфису в партию…
И самое большое счастье сейчас было в том, чтобы безраздельно, целиком подчинить себя этой силе, ибо она беспощадно отбрасывала, карала все то, что пыталось выбиться из общего русла, зажить своей, обособленной жизнью… И может быть, потому так было неспокойно у него на душе, что по мере того, как тело его наливалось соками, в нем все сильнее заявляли о себе личные желания. Они обособляли, выталкивали его из единого потока, с каждым днем все больше и больше разрушали ту гармонию полной слитности с общим, которой он жил на фронте и первые недели в Пекашине. И даже теперь, когда он мучился угрызениями совести, глаза его жадно и неотрывно следили за Анфисой, косившей вместе с женщинами на лугу. Он припоминал, как они ехали сюда лесом, как время от времени он прижимал своего коня к ее кобылке, чтобы коснуться ее колена…
Но еще больше мучило его открытие, которое он сделал сегодня. Оказывается, ему по-прежнему небезразлична и Варвара, ибо каждый раз, как она, улыбаясь, махала ему рукой, горячая сушь перехватывала его горло.
«Скотина! Скотина! — нещадно ругал он себя. — Мужики на фронте, а ты…»
На какое-то мгновение ему удавалось обрести душевное равновесие, но вскоре он снова нечистыми глазами присматривался к Анфисе, и ему бесконечно жаль было того светлого, радостного чувства, которое он испытывал к ней в ту белую ночь.
Весь измученный этой борьбой, Лукашин едва дождался, когда солнце село над лесом и люди потянулись к избе. Старики шли медленно, с трудом волоча ноги. Зато женщины бежали как настеганные, им надо было еще управиться с коровами. И точно, когда Лукашин стал подходить к избе, ближайшие пожни огласились криками. Это хозяйки ищут своих коров, забравшихся в кусты от дневного гнуса. Потом, выгнав их на чистое место, ставили на вязку и, наскоро обмыв подойник в Синельге, тут же, на выкошенном лугу, прилаживались на корточках под вымя коров. Вокруг избы запахло парным молочком. Коровы от гнуса не стояли, бились, иной раз хвостом или копытом угадывали в подойник. Тут и там слышались раздраженные голоса, ругань, сопровождаемая звучным шлепаньем.
Метрах в десяти от избушки, у самого леса (здесь не так жарко), стояла наспех срубленная из мелких лесин клетка, покрытая свежим еловым лапником. Там хранили и квасили молоко.
Старики и женщины, у которых не было коров, разводили костер, готовили немудреный ужин.
И от всего окружающего — от старой, замшелой избы с продымленными стенами, к которым с севера вплотную подступал лес, от лоснящихся коров, которых доили под открытым небом, от жаркого костра с подвешенными на крюках черными котелками и чайниками, возле которых возились бородатые старики, — от всего этого веяло такой первобытностью, что казалось, время веками не заглядывало сюда. Но здесь, в лесной глухомани, где по вечерам все живое изнывало и стонало от комара, это были наиболее разумные, столетиями проверенные формы бытия. Так по крайней мере думал Лукашин.
— Что, комарики кусают? — посочувствовала Варвара, первой возвращаясь к избе от коровы. — Свеженького они любят. Известно дело, здесь не на руси.
— Не на руси?
Варвара удивилась: чего тут непонятного?
— У нас русью-то домашнее называют. А здесь, в суземе, какая уж Русь…
«Да, — размышлял Лукашин, вдумываясь в смысл Варвариных слов. — Вот она, жизнь северного мужика! Какой же ценой дались ему эти сторонние сенокосы, если у него язык не повернулся, чтобы назвать их дорогим именем Русь? А ведь отсюда до деревни километров десять — не больше…»
Ужинали на открытом воздухе, за длинным узким столом, сколоченным из двух толстых еловых плах. Солнце уже зашло. Стало свежо. По скошенному лугу от речки пополз легкий туман. От мошки не было спасенья. Она висела тучами над людьми, залезала под одежду, слепила глаза. Старики сидели в холстяных куклях-накомарниках, женщины так обмотались платками, что видны были только глаза да рот. Варвара надела даже легкие рукавицы. Только одна Марфа восседала без платка, с открытым лицом и шеей, точно она была заговорена от гнуса.
Стало легче, когда Трофим догадался прикрыть огонь еловой лапой и на людей потянуло дымом.
Ели молча. В притихшем на заре воздухе звонко выговаривали ложки о посуду, всхрапывал, обжигаясь, Трофим. Варвара, зачерпнув похлебки с нападавшей туда мошкой, брезгливо передернула плечами. Марфа сдвинула брови:
— Ешь. Чего нос воротишь? Мяса хотела, а как упало, отворачиваешься.
Лукашин сидел с краю, рядом с Анфисой. Она только что вернулась с пожни ходила с Софроном Игнатьевичем смотреть стога. Ей, видно, пришлось пробираться кустами и некошеными травниками, — к намокшему платью на плечах и на спине пристали травяные семена, какой-то белый пух.
Она заботливо подкладывала ему свой хлеб и изредка, украдкой, из-под белого платка, надвинутого на самые брови, косила в его сторону черным улыбающимся глазом.
Лукашин вдыхал аромат разнотравья и росяной свежести, идущий от Анфисы, хмурился, когда встречался с лукавым, подстерегающим взглядом Варвары.
Разговорились, когда немного утолили голод. Опять те же вопросы: что на фронте?
Софрон Игнатьевич, свернув цигарку, полюбопытствовал:
— А как насчет второго фронта? Слышно чего? Ложки в мисках замерли, но после ответа Лукашина — яростная стукотня, возмущенные голоса:
— О чем думают?
— Союзнички…
— Мы этих союзничков отведали — в какой деревне могилы не оставили…
— Да уж так, Иван Дмитриевич, может, и неладно теперь говорить, вздохнула Василиса, — а только у нас от этих американ да англичан с двадцатого слезы не высохли. И что они вытворяли здесь, на Пинеге, — страх вспомнить… У моей сестры был сынок Ваня — весь-то мальчишечко тринадцати годков. Ну, послала сестра Ваню к тетке, в соседнюю деревню… А ребенок что? Попались на дороге патроны стреляные — идет, играет этими патронами. А тут американы, англичаны, — увидели, схватили ребенка. Тетка прибежала вечером ни жива ни мертва: «Выручайте Ваню». Мы с сестрой к американам, добрались до ихнего начальника, в ноги падаем: «Отпустите ребенка». А начальник, рыжий, здоровенный такой, ногами топает, лопочет по-своему: «Партизан, партизан…» да сестре тычет крестик на белом шнурке — а это Ванин нательный крестик… Сестра как увидела крестик-то — умом пошатнулась. Так и доживала, бедная… Ну а Ваню, — всхлипнула Василиса, — весной у берега нашли… всю зиму в проруби пролежал…