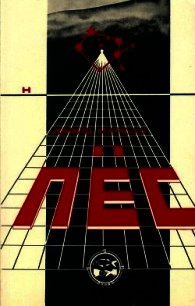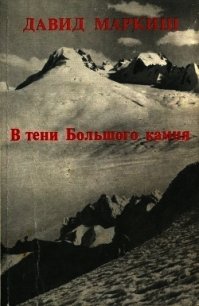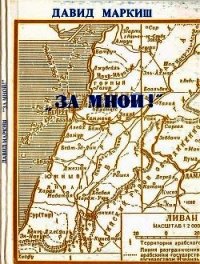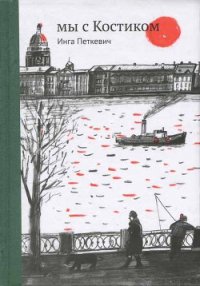Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (книги онлайн полные .txt) 📗
Иерусалим начался не с пригородов — просто шоссе вошло в город и стало улицей. Как будто отворили дверь из пустой нежилой комнаты в обжитую, живую, оклеенную желтыми обоями, с голубым потолком. Люди с деловым видом шли по Иерусалиму, и Вадим Соловьев, выйдя из автобуса, пошел вместе с ними.
Он шел долго, и ходьба не надоедала ему, потому что он сам не знал, куда идет; цель, таким образом, не приближалась, ибо ее не было вовсе, и Вадим Соловьев не мог с чувством воскликнуть про себя: «Ах, черт, как еще далеко!» или «Вот уже всего две улицы осталось, три перекрестка!». Ни к чему намеченному не направляясь, но и не вознамерившись прогуливаться просто так, для собственного удовольствия, Вадим Соловьев как бы шагал на месте, поочередно подымая и опуская ноги. Какие-никакие переживания, связанные у ходоков с приближением или удалением от чего бы то ни было и сколько-нибудь волнительные для них, были совершенно чужды Вадиму; результатом его движения могла быть только усталость, и тогда следовало бы присесть на лавочку, если бы она случилась по пути. Шагая мимо домов, деревьев и кустов палисадников и скверов, Вадим Соловьев размышлял: «Вот Божий город, куда меня затащила чертова судьба. Не окажись я евреем по материнской линии, едва ли я бы сюда и попал. А ведь сколько людей мечтают поглядеть на Стену плача, на знаменитую мечеть и на улицу, по которой Христа гнали на казнь. Если бы сегодня не зарезали мою книгу, я, наверно, первым делом пошел бы туда, где все это расположено и, наверно, благодарил бы Бога за то, что вот, книжка моя выйдет. Но книжка зарезана, и я не хочу жаловаться Богу, потому что это бессмысленно — как, впрочем, и благодарить Его. Книжка, значит, мне дороже всех Стен, мечетей и улиц, вместе взятых, она — впереди всего, на первом месте. Куда было бы лучше, если бы люди писали и читали книжки, вместо того, чтобы убивать друг друга во имя Стены, мечети и улицы. Но люди убивали и убивают, и при этом они еще твердят, что это угодно Богу. Так почему же тогда не восстановить человеческие жертвоприношения и вот на этом, скажем, газоне каждое первое число каждого месяца вспарывать кому-нибудь брюхо каменным ножом или делать укол цианистого калия? Двенадцать человек в год. Столько, сколько гибнет здесь каждую неделю в автомобильных катастрофах… Зеленый газон, играет струнный оркестр возле каменного лобного места, ангельскими голосами поет хор детей, поэты читают свои стихи народу и жертве, сидящей на возвышении на складном парусиновом стульчике».
Представленное было настолько зримым, что Вадиму Соловьеву захотелось опуститься на этот самый стульчик, послушать поэтов и детей, а потом подставить руку под шприц с цианистым калием. Он огляделся; лавочек нигде не было, а газон остался позади и не хотелось туда возвращаться. Зато в нескольких метрах от остановившегося Вадима золотисто светился вход в маленькую синагогу. Синагога простотой формы напоминала сарай и, судя по кладке камней, была древней постройки. Хорошо бы немного отдохнуть в уголке, в этом толстостенном доме, открытом для каждого, желающего туда войти. И Вадим Соловьев решил, шагнул и вошел.
По обе стороны от входа тянулась узкая каменная скамья; Вадим сел на нее. После пронзительного света улицы непросто было разглядеть убранство комнаты и картины позади высокого деревянного шкафа, да Вадим и не успел: к нему, мягко ступая, подошел неряшливо и бедно, но чисто одетый старик, протянул ему черную бумажную чеплашку и опустился рядом с ним на скамью. Надев чеплашку, Вадим обернулся к старику, но тот, как видно, не желал начинать разговор и не этого ради подсел к Вадиму. Щурясь и напрягая зрение, Вадим Соловьев различил в глубине комнаты, у противоположной стены, длинный, грубо и крепко сколоченный стол, за которым сидело человек восемь или десять, средних лет и пожилые, но не вовсе ветхие старики. Во главе стола, чуть выше других, сидел мужчина лет шестидесяти пяти, не более, в дешевом сером пиджачке, в белой, низко расстегнутой на груди рубашке и мятой, давно потерявшей форму то ли темно-серой, то ли выгоревшей черной шляпе, с темным круглым следом от ленты вокруг тульи. Этот человек, плавно взмахивая руками, читал что-то по истрепанной толстой книге и, судя по интонации, задавал вопросы своим слушателям. Он не был похож ни на раввина, этот человек, ни на ученого.
— Кто это? — повернувшись к молчаливому старику на скамье, спросил Вадим Соловьев и движением головы указал на сидевшего во главе стола. И почти не удивился, услышав в ответ по-русски:
— А разве ты не знаешь? Это синагога великого каббалиста рабби Абоаба, а это сам рабби учит своих учеников. Сюда приходят учиться люди со всего света. Вон тот, рядом с рабби, в сатиновых штанах — это курд, он недавно перешел в еврейство.
— Но ведь все раввины ходят в лапсердаках, — поделился со стариком Вадим Соловьев. — А этот…
— Рабби Абоаб не сидит с раввинами за одним столом, — перебил Вадима старик. — Раввины обходят синагогу рабби Абоаба стороной. Сюда идут те, кто хотят учиться мудрости, а не букве.
— А вы — тоже ученик? — спросил Вадим Соловьев.
— Нет, — сказал старик. — Но я хочу им стать.
На фанерной тумбочке закипел электрический чайник, и старик достал из ящика поднос, стаканы и кулечек с коржиками, посыпанными сахарным песком. Споро заварив чай, старик разлил его по стаканам и, держа поднос на вытянутых руках, пошел к столу. Не прерывая учения и разговора, рабби и его ученики разобрали стаканы с подноса, и каждому пришлось по сахарному коржику.
— Он тебя зовет, — сказал старик, вернувшись с пустым подносом. — Пошли.
— Меня? — удивился Вадим Соловьев, а ноги сами подняли его со скамьи.
Они подошли к столу, и Вадим увидел лицо рабби Абоаба. Серо-седые, спутанные, не знающие гребня волосы выбивались из-под сдвинутого на затылок колпака шляпы и закрывали верх высокого прямого лба. Густо-синие глаза рабби глядели не грустно и не скорбно, как у еврея, отягощенного многими знаниями, а радостно и чуть смешливо. В своем рваном пиджачке и ветхой чистой рубашке он был похож на пророка или на свободного художника.
Отложив книгу, рабби сказал что-то раскатистой скороговоркой и поманил Вадима Соловьева подойти поближе.
— Он хочет благословить тебя, — перевел старик.
— Но я не верю в Бога… — виновато сказал Вадим.
Удовлетворенно покачивая головой, рабби выслушал перевод старика.
— Но зато я верю в Бога, — сказал рабби. — Этого вполне достаточно: ведь я хочу тебя благословить, а не ты меня. Дай же мне сделать богоугодное дело.
Вадим подошел, и рабби Абоаб легко опустил руки на его голову.
— Бог не ищет человека, — сказал рабби Абоаб. — Человек ищет Бога. Ты не нужен Богу. Бог нужен тебе, мальчик. Ты попал в беду сегодня, и все, во что ты хотел верить, разрушилось. Но для того, чтобы восстановить в душе разрушенное, не нужно ни камней, ни денег. Завтра ты поймешь это, и твоя дорога к самому себе и будет дорогой к Богу… Теперь иди, и прежде, чем спросить «почему?» подумай, нужен ли тебе ответ и не лучше ли совсем обойтись без ответа.
Вечером этого дня Вадим Соловьев позвонил Славке Кулешу.
— Слушай, — сказал Вадим, — я в Иерусалиме. Почему? Да какая разница! Слушай, со мной что-то случилось невозможное. Я видел пророка, настоящего пророка.
— Ну, потом расскажешь, — сказал Славка Кулеш. — Тут, знаешь, тебе на Союз письмо пришло, из Вены.
— Это от моих друзей, — сказал Вадим. — Я тебе о них рассказывал… Знаешь что, прочти мне, если тебе не трудно!
— Ладно, — сказал Славка. — Сейчас прочту… «Вадим, месяц тому назад я похоронила Захара…»

9
ИЕРУСАЛИМ. ПЕРЕУЛОК ИИСУСА
Сразу после телефонного разговора Вадим Соловьев решил вернуться в синагогу, к рабби Абоабу. Во всем том, что случилось за один сегодняшний день: книга, встреча с рабби, известие о гибели Захара — Вадим усматривал отнюдь не случайное стечение обстоятельств. Он вдруг почувствовал, что мир вокруг него стал иным, чем тот, что был вчера или третьего дня, что жизнь сделалась совершенно неуправляемой и идет себе вне всякой зависимости от его, Вадима Соловьева, планов и желаний. Вадима тащило и несло новое нахлынувшее течение, необъяснимое, и бессмысленна была бы сама попытка его объяснить. Но это должно было кончиться: либо Вадима вынесет на привычный прочный берег, либо душа его не выдержит и он, переполнившись этой необъяснимой и пугающей новью, захлебнется ею, захлебнется и умрет. Он не мог сосредоточиться на одном каком-либо из событий сегодняшнего дня, мысли его расползались, и он с тревогой сознавал, что у него недостает сил собрать их и разобраться в них. Он почти сходил с ума и отдавал себе в этом отчет.