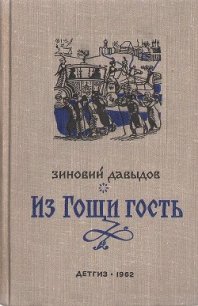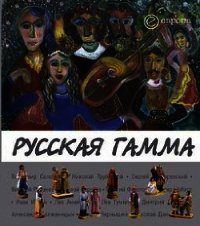Русская служба и другие истории (Сборник) - Зиник Зиновий Ефимович (читать книги без .TXT) 📗
Мой гид по крикетным эмпиреям, шестидесятилетний Артур Саймонс, младший сотрудник редакции еженедельника The Browser, иронично глядел на меня прозрачными голубыми глазами, где перемешалась летняя голубизна с облаками. Глаза увлажнялись с каждым глотком алкоголя. Чем больше он употреблял напитка под названием Pimm’s, тем гуще перемешивались облака с голубизной в его глазах. Объяснить по-русски, что такое Pimm’s, так же сложно, как и понять крикет. В принципе, это английский вариант кампари. Если вы знаете, что такое кампари. Кампари — это такая горьковатая настойка, ее пьют с содовой или с апельсиновым соком, скажем, разбавляя на две трети. В отличие от кампари, Pimm’s скорее сладковат, нежели горьковат. Кроме того, цвет не гранатовый, как у кампари, а скорее бурый, компотный. Компотный, вот именно: туда, в Pimm’s, англичане кладут все что в голову взбредет: можно лимон, а можно огурец. Огурец, а что, а почему бы нет? Я не уверен, но, насколько мне известно, самые крупные любители этого напитка кладут туда даже редиску. С сельдереем. Короче, это вроде английского варианта русской окрошки на квасе, а вовсе не английский вариант итальянского кампари.
Впрочем, все эти мои объяснения, как всякий неудачный перевод непереводимой детали (гипнотизирующей именно своей непереводимостью, своим существованием лишь в английском языке), создают неправильное впечатление (на бумаге) от того солнечного июньского полдня, когда мы сидели с Артуром в белых креслах на краю зеленой крикетной лужайки и он вновь и вновь пытался объяснить мне правила игры в крикет. В его глазах, соперничающих по голубизне с небом, мог затеряться отбитый ввысь крикетный мяч, но мысль в них читалась та, что отступать дальше некуда и места для маневров не осталось. Он, жертва цветочной пыльцы, дышал прерывисто и шмыгал носом, прикладываясь из-за насморка, сенной лихорадки, к платку после каждого глотка из стакана. Он находился в том состоянии, когда со стороны кажется, что человек при смерти: астматическая одышка, покрасневшие веки, и кончик языка, постоянно по-змеиному облизывающий пересохшие губы, — все это придавало его облику нечто потустороннее, превращало его в парию мира здешнего. Рядом с ним даже я, советский эмигрант с фиговым листком в виде британского паспорта, гляделся вполне сносно, чуть ли не как завсегдатай этого крикетного сборища. Кроме того, я чувствовал себя как будто на премьере собственного спектакля, поскольку в последнем номере еженедельника я выступал в качестве автора — «его автора». Я был литературным открытием Артура Саймонса, что верно лишь отчасти, поскольку сам он разыскал меня через Times Literary Supplement (лит. приложение к «Таймс»), где меня уже до него использовали по тому же, в сущности, назначению: как только на лондонской сцене возникало нечто экзотически заморское, некий культурологический урод для ярмарочного балагана (скажем, израильская постановка о венском еврее-антисемите и женоненавистнике-самоубийце Отто Вайнингере, авторе книги «Пол и характер», где главная идея: еврейство — это женственность человечества, а женщин он терпеть не мог), в строй рецензентов призывался я со своим российским прошлым и двойным, британо-израильским гражданством.
Так или иначе, со мной тут обращались как с примадонной, по всей изысканной экзотичности сравнимой разве что с самим предметом моих литературных экзерсисов. Приглашение на этот ежегодный крикетный матч (редакция The Browser против команды издателей) было само по себе честью (присутствовали все пижоны литературного мира), а тут еще и бесконечное кружение вокруг меня, и каждый готов был с благожелательной улыбкой выслушивать мои каламбуры по-английски в духе Вайнингера про Россию (женского рода) в состоянии ложной беременности свободой, предменструальной депрессии из-за неминуемой эмиграции евреев и неизбежного литературного климакса. С каждый мгновением я все уверенней чувствовал себя полноправной частью общей картины, крикетной команды, с пониманием кивая головой, когда Артур, интимно склонив голову в мою сторону, остроумно обыгрывал, скажем, тот факт, что батсменом на «нашей» стороне выступал драматург Гарольд Пинтер, гений пауз в диалоге, как бы давая мне понять, что пауза в диалоге и есть ключевая метафора крикета.
«Со стороны, — продолжал Артур, не отрывая слезящегося взгляда от лужайки, — видимость легкости, неуловимости и изящества. На самом деле, когда ты на площадке лицом к лицу с противником, начинают дрожать коленки. Крикетный мяч — страшное оружие. На вид — маленький шарик. На ощупь он тяжел и тверд. Свистит, как пушечное ядро. Тебе кажется: тебе сейчас размозжат череп на глазах у всех. И уже ничто не поможет. Все стоят и ждут, как тебя будут калечить. Жутко, милейший, жутко». Я видел, как его желтые пальцы сжали ручку кресла. Артур Саймонс нравился мне еще и тем, что был одним из немногих англичан, кто общался со мной без той приблатненности, с какой британский интеллектуал обращается с русским варваром, как бы подстраиваясь под его варварский взгляд, — занижая и тон и речь беседы, клевеща, так сказать, на собственную страну, ради продолжения разговора с любопытным, но безграмотным чужаком. Поэтому когда Артур говорил о скрытой английской агрессивности под маской отстраненной доброжелательности, я ему верил: он говорил со мной на равных — как бы сам с собой в моем присутствии. Я чувствовал себя равным в кругу избранных. В этот момент на другом конце лужайки и появилась Джоан.
Я совершенно не ожидал, что она объявится здесь. Точнее, она явно не ожидала, что застанет меня на этом сборище, и ее удивление при виде меня передалось мне как ощущение моей собственной неуместности. Меня здесь не предполагалось, с ее точки зрения, которая тут же стала моей точкой зрения на себя самого. Так происходило с самого начала нашего знакомства. Она была моей первой истинной лондонкой в том смысле, что входила в те круги, где не бывает людей вроде меня: русского еврея, попавшего в Лондон из Москвы через Иерусалим. Перевирая Граучо Маркса, я не мог не относиться без тайного трепета к кругам, где меня не принимали за своего: если меня там не принимают за своего, значит, там что-то есть (а именно то, за что меня туда не принимали). Короче: хорошо там, где нас нет. Значит ли это, что хуже всего там, где мы есть?
С нее следует отсчитывать тот период моей лондонской жизни, когда я вообразил, что уже принадлежу иной жизни, что я уже не чужак-уродец, не мальчик с улицы, вжавшийся носом в стекло чужого окна, где идет праздник. Чужак — всегда по ту сторону стекла: глядит снаружи, расплющив нос; поэтому чужак всегда уродец-монстр. Мне мерещилось в те дни, что я оторвался от российского прошлого, не найдя еще, правда, словаря для нового быта моей души. Мне казалось, что я, по крайней мере, уже перестал переводить новую для себя жизнь на прежний язык. Перестал переводить, следовательно — перестал эту жизнь в уме пародировать. Мне казалось, что я мыслю на английском, но продолжаю изъясняться (как сейчас) на русском. Но не иллюзия ли подобное раздвоение — на мысль и слово? Возможно ли изъясняться на «английском» русском? Не испаряются ли все английские открытия как симпатические чернила в тот момент, как только перестал говорить на английском? Возможно ли перевести на родной язык то, что завораживает именно потому, что кажется непереводимым на иной язык? Может ли стать родным — не свое? Как можно принять чуждость, если чуждость и есть то, чего невозможно принять?
Джоан продвигалась по дальнему краю лужайки, различимая за три версты демонстративной нелепостью своих одеяний. Зонтик был, пожалуй, единственной деталью, украденной из классического антуража дамы на крикетном матче. Однако зонтик этот был черный. Не был ли этот зонтик обыкновенным дождевым зонтиком? То есть, наверное, шикарный зонтик, с костяной ручкой, шелковый и ажурный, но все же — дождевой и, главное, черный. Она вообще была во всем черном — как и полагалось в те годы среди тех, кто был в узком кругу тех, кто не считал того, кто не принадлежит к их узкому кругу, за истинного лондонца вообще. Черная юбка волочилась по траве, как бальное платье с треном, но черный пиджак был мужского покроя, с подбитыми плечами, нараспашку. Если добавить ко всему этому шляпку-котелок тридцатых годов с рыжей челкой на лоб, впечатление создавалось незабываемое. Довольно чудаковатое, нужно сказать. Она, как всегда, была выряжена настолько не так, как полагается, что можно было подумать: именно так сейчас и полагается одеваться. В тот период у меня на этот счет не было никаких сомнений: она была образцом английского совершенства и безупречности.