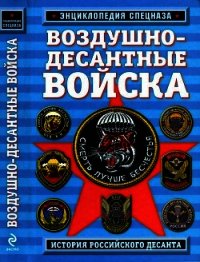Том 3. Воздушный десант - Кожевников Алексей Венедиктович (бесплатные онлайн книги читаем полные .TXT) 📗
15
Я хочу сделать невозможное — из опасного круга, в котором оказался, выйти невидимкой. Я собираю всю свою осторожность, наблюдательность, бдительность, весь слух, всю зоркость, снова и снова оглядываю поля, дороги, деревни, небо. Кто же сегодня будет мне другом, а кто врагом?
Первыми на выручку приходят облака, — под вечер они начинают густеть, смыкаться одно с другим и к закату солнца плотно укрывают все небо. Не видно ни луны, ни единой звездочки.
После заката тотчас, без зари, наступает темная ночь. Это и хорошо мне, и плохо: не только меня, но и врагов моих ночь сделает тоже невидимками. Нет, я не вполне доволен ночью, надо бы чуть-чуть посветлей.
Переползаю от осины к пепелищу, где жгли днем картофельную ботву и пекли картошку. Перегребаю руками теплую золу: неужели ничего не оставили, съели все? Да, в золе нет ничего. Начинаю шарить вокруг пепелища. Тут, можно сказать, золотое дно: пять штук сырых картофелин, три испеченных, головка лука и спичечный коробок соли. Печеную картошку съедаю, а сырую прячу в карманы. Буду «пить» ее маленькими дольками.
Иду, вглядываюсь, что может укрыть меня. Ночь не такая уж темная, как показалось вначале: сквозь облака светят немножко месяц и звезды, с дорог отсвечивают машины, из деревень — окна. Моментами бывает так светло, что от меня падает вполне отчетливая тень.
Напрасно думал я, что кругом только враги. Есть, оказывается, и друзья, много друзей, хранителей, помощников, соратников… Это — и борозды в неубранном картофельнике, и груды ботвы в убранном, всякие рытвины, ямы, промоины, овраги в полях, канавы вдоль дорог, отдельные кусты, деревья и целые леса. Ночью они выглядят то светлей, то темней окружающей местности. Я все время иду на них, по ним.
Уже скрылась в ночи моя спасительница осина, остался позади овраг, где обстреляли меня из автомата, обошел деревню, перемахнул несколько дорог, несколько полей.
Судя по огням, впереди у меня новый куст деревень. Они здесь стоят кустами — в середине большая, а вокруг маленькие выселки, хуторки. Большая сильно освещена, а мне подозрителен всякий огонь, всякий свет, и я обхожу ее задами. Деревня начинена танками, самоходками, грузовиками, немецкими солдатами, как арбуз семечками.
Мне надо где-то напиться, потушить жажду картошкой не могу, она хоть и сырая, а все-таки больше еда, чем питье.
Слышу — в стороне поют петухи. Иду туда. Маленькая деревенька, почему-то совсем темная и тихая, будто за тысячи верст от войны, от больших дорог. То самое, что надо мне. В одной из хат теплится еле видный свет, скорей всего — свет лампадки перед иконами. Стучусь в эту хату. Крестясь и дошептывая молитву, выходит из ворот старуха. Я прошу пить. Она выносит ковшик холодной воды и шепчет торопливо:
— Беги! У меня в хате полно немцев. Услышат нас — выйдут. Беги, миленький, беги! Беги скорей!
Крестясь, она подается назад, во двор, и запирает калитку на засов. Я прячусь за угол хаты, в темноту сада.
Я иду из деревни в поля.
Остановил меня большой омет старой, потемнелой соломы. Что может быть лучше?! Я не променяю его на все крепости мира. Если уж в пору свежести не увезли его, то теперь, через три-четыре года лежанья, никто и близко не подъедет. Видно за километр, что он не гож ни в печку, ни скоту.
Ветер разогнал облака. Опять ярко, золотисто, соблазнительно светит горбинка, сухарик луны. По всему небу искрится звездная россыпь. Как хорошо, радостно, празднично там, вверху, будто на весь мир зажгли рождественскую елку. Но это по-прежнему, по-мирному. А теперь для меня такая ночь самая скверная. Луна, звезды, ясность — мои соглядатаи, мои враги. Они могут нагадить мне в любой миг, не предвещают ничего приятного и впереди. Завтра будет солнечный, жаркий день. Мне это — смертельная опасность, смертельная жажда, смертельная усталость. Мне бы теперь долгий осенний дождь, непроглядный туман, грязь по колено, по пузо, чтобы ни один немец не мог ни выйти, ни выехать. А мы, десантники, проползем.
Делаю в омете неглубокое гнездышко и ложусь в него. Некоторое время только отдыхаю, ни во что не вглядываясь, не вслушиваясь, ничего не думая.
У меня каждый день и каждую ночь — переселенье, новоселье. Где только не дневал, не ночевал. В мирное время за всю жизнь не переменишь столько квартир и ночлегов. Это и грустно и приятно, — рядом с тоской по нормальному человеческому дому живет чувство горделивости: вот я какой, вот через что прошел.
Уже не первый раз слышу какие-то вздохи. Они близко, почти рядом со мной, определенно в омете. Кто тут — человек, зверь или вздыхает сам омет? Он ведь, подобно живому существу, способен меняться: стареет, чернеет, оседает, болеет (внутри у него сильно повышенная, почти горячая температура), возможно, способен горевать, охать.
А если человек, то враг или друг? Я не осмеливаюсь ни посигналить, ни встать и уйти, хотя сильно тянет на это. Стараюсь не шевелиться и дышать как ни можно тише.
Как же разведать, кто затаился в омете? Разведать раньше, чем он обнаружит меня: ведь если хочешь победить врага, постарайся увидеть его первым.
Надо действовать, а я рассуждаю. Легко сказать: действовать. Но как? Вскочить и гаркнуть: «Руки вверх!» Он только и ждет этого. Когда я покажусь или подам толос, тогда уж он без промаха разрядит в меня свой автомат.
А если в омете затаился не враг, а мой друг десантник, и все мои подозрения, страхи, терзания напрасны?
К черту колебания, надо действовать — быстро, смело, по-десантски, либо грудь в крестах, либо голова в кустах!
Начинаю шевелиться, будто укладываюсь спать, пробую похрапывать, посвистывать носом, будто засыпаю. Эта тактика мне кажется самой надежной. Когда мой сосед по омету, мой друг или недруг, уверится, что я заснул, он, конечно, выползет из своей норы поглядеть на меня. Вот тогда я… И беру свой автомат наизготовку. Усиленно играю в засыпающего, потом в спящего и засыпаю всерьез.
Мне видится страшный сон. Справа от меня из-под соломы выползла смерть, худая-худущая, кожа да кости, глаза провалились, губы ссохлись, сморщились, сильно выпирают оскаленные зубы.
Она пристально глядит на меня, оскалясь не то в радости, не то в злости, и хрипло шепчет:
— Свой… Наш… Похоже, Корзинкин. Да, он. Эй ты, Корзинкин, разметался, как дома! Подберись.
Наконец я просыпаюсь.
Я хватаю автомат, который во сне выпустил из рук, но возле меня такой несомненный десантник, что вместо выстрела протягиваю к нему руки:
— Ну, здравствуй! Ты кто?
— Дохляков.
Переговариваясь, обнимаемся, целуемся, тискаем друг друга. Мы рады встрече, как закадычные друзья, хотя на самом деле только едва знакомые сослуживцы.
— А ты похож на выходца из могилы, — говорю я. — Худ… везде торчат кости. Обнимать тебя все равно что вязанку дров.
— Будешь худ, — отзывается Дохляков таинственно. — Нет ли у тебя водички?
— Нет.
— А пить хочешь?
— Зверски.
— Тогда пойдем, пока не рассвело, — зовет Дохляков.
Осторожно, ползком, спускаемся с омета, затем ползем вокруг него. Когда попадается на пути широкий, лопушистый листочек, Дохляков склоняется над ним и слизывает капельки росы. Я не считаю нужным заниматься такими пустяками.
Я жду, что будет дальше, а Дохляков облизывает новый лист.
— И это все? — От неожиданности и изумления мой язык становится неповоротливым. — И ты этто… — Я не сразу нахожу слово, — это дело называешь питьем?
— Не хочешь этого — тогда давай настоящее! Жмот, жадюга! — ворчит Дохляков. — Я ведь слышу, как булькает у тебя.
— Вон что, он не верит, что у меня нет воды. Открываю флягу, поворачиваю вниз горлышком. Пуста.
Ползем дальше и пьем по-дохляковски. Мне не нравится: надо низко склонять голову, сильно высовывать язык, вместе с росой попадает в рот всякий мусор. Срываю листок и потом уж облизываю его — так удобней. Но Дохляков сердито шепчет: