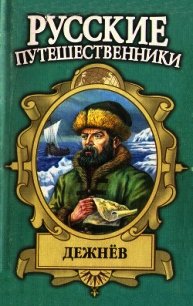Киевские ночи (Роман, повести, рассказы) - Журахович Семен Михайлович (читаем книги .TXT) 📗
— Ну, чего фары вылупил? Откуда бредешь?
— Из-под Умани. Домой добираюсь.
— Раненый?
— Да поцарапало, — Ярош показал на ноги. — Мина вот так разорвалась.
— Потому и голенища обкорнал, — хмыкнул полицай, презрительно разглядывая обрезанные кирзовые сапоги Яроша. Потом с глумливой ухмылкой оглядел его с головы до ног — выцветшие солдатские штаны, латаный ватник и заношенную кепку, давно утратившую какой бы то ни было цвет.
Чуть оживившееся было лицо полицая снова покрыла холодная пелена равнодушия, он сунул руку в карман шинели, что-то там нащупал и вытащил кусок пирога с творогом. Внимательно посмотрел, откусил и снова зачавкал.
Они шли почти рядом, не глядя друг на друга.
— Кацап? Комиссар? — на миг повернув голову, спросил полицай. Вопрос его звучал беззлобно, почти весело. — Или, может, этот, как его?.. Марксист?.. Смотрю я на тебя, дурной ты как пень! — Он прожевал, проглотил и тогда передразнил Яроша: — «Поцарапало… Мина разорвалась…» А какого черта тебя понесло в пекло? Поцарапала б мина тебе мозги, еще лучше было бы. Пентюхам так и надо! Вот и получай: «За родину!..» А я живо смекнул и сказал себе: «Нема дурных. Пускай эшелон подойдет поближе, только меня комиссары и видели». Эшелон как раз ночью тут проходил, и я сиганул домой… Вот видишь, цел-целехонек. Пока ты там под минами и бомбами гинул, я пампушки с салом ел и вот этакую бабу щупал. А ты уже, верно, и забыл, когда за мягкое место держался. — Полицай захохотал, но оборвал смех. — Ну, чего вытаращился?
Ярош поспешно отвел взгляд. Рука, в которой он держал палку, мелко задрожала. Теперь он уже и в самом деле сильнее хромал, — левую ногу пронизывала острая боль.
— А теперь? Служишь или как? — спросил он и не узнал своего голоса.
Полицай шевельнул локтем, показывая нарукавную повязку. Он уже опять жевал.
— В Фастове, на станции, — с полным ртом прошамкал он. — Это я домой наведался, — кивнул головой в сторону. И продолжал: — Из Демидовки я. А ты издалека?
Ярош ответил не сразу:
— Из Боярки. Домой иду.
«Хорошо, что я не сказал про Киев, — подумал он. — А то этот болван мог бы догадаться».
— Знаю Боярку, — сказал полицай и запихнул в рот остаток пирога.
Его нижняя челюсть с округлым подбородком медленно и тяжело ходила слева направо, слева направо.
— Как оно там, пройду до Боярки? — Ярош сбоку глянул на полицая, напряженно ожидая ответа.
Полицай кивнул головой и промычал: «Ум-м-гу».
— Фронта уже там нет?
— Фронт? Хе-хе, где он, фронт? Ты что, с неба свалился, что ли? Фронт уже, хлопче, за Днепром. О-го-го! Может, под Полтавой, а может, еще дальше. Хе-хе, фронт.
Ярош задохнулся.
— А Киев? — хрипло выкрикнул он.
— Перекрестись! — полицай весело свистнул. — Уже три дня, как взяли. Ого-го, немецкие эшелоны до самого Киева прут. Аж гудит. Там, хлопче, танков, орудий…
Полицай не договорил. Еще не успев ни о чем подумать, Ярош размахнулся и увесистой палкой, что дала ему на дорогу добрая тетка, ударил полицая по затылку. Тот покачнулся, побелевшими глазами глянул на Яроша и, злобно оскалив зубы, рванул из-за спины винтовку. Однако новый удар по голове свалил его с ног.
Лишь теперь Ярош оглянулся, посмотрел вперед. Дорога, как и прежде, была безлюдна. Тогда он наклонился и попробовал вытащить винтовку из-под полицая. Но тут же подумал: «Стрелять нельзя, услышат». Какой-то миг он растерянно стоял над распростертым телом. Полицай шевельнулся, видно пришел в себя, и стал медленно приподниматься на руке.
Ярош оцепенело следил за этими расслабленными движениями, потом заскрипел зубами, прыгнул полицаю на спину и, отвернувшись, закрыв глаза, схватил его за горло и душил, душил, пока не затих омерзительный хрип. Тогда он резко отодвинулся в сторону, сел прямо в мягкую дорожную пыль и судорожно перевел дыхание. Чувствовал, как трясутся у него руки, но не в силах был посмотреть на них. Ему казалось, что отныне на его ладонях навеки останется какой-то липкий след.
Дорога словно вымерла. Что там ждет дальше?
«Сам ты пентюх, — подумал он о полицае. — Тупоголовый жмот! Не жрать тебе больше пампушек с салом. А был бы ты чуть проворней, дело обернулось бы иначе. Заработал бы я пулю — и все…»
Ярош встал, смерил глазами расстояние до зеленой полосы, взял полицая за ноги и, низко согнувшись, потащил его в пропыленные кусты. Потом вернулся, замел ногами широкий след, оставшийся в пыли, подобрал палку и винтовку и, перейдя дорогу, скрылся за кустами противоположной стороны. Несколько минут сидел он под деревом, уставившись в землю. Наконец поднял голову. Надо было что-то решать, но в голове билась одна мысль: Киев уже сдан.
Руки его невольно сжали винтовку. Залечь бы тут у дороги, нет, не тут, это окольная, никому сейчас не нужная, залечь бы там, где они ездят, и стрелять, стрелять.
Он вынул затвор. «Два патрона? Не больно много навоюешь. А если б даже десять?»
То, чем он жил все эти дни и ночи, снова властно заговорило в нем. «Я должен идти. Должен. Если Киев уже захватили, пойду дальше. Я должен идти».
Он закопал затвор, винтовку сунул в кусты, укрыл травой и опавшими листьями.
Теперь все. Хотелось очутиться как можно дальше от этого проклятого места. «Несколько километров на всякий случай пройду за лесной полосой», — сказал он себе.
Остро резнуло в пересохшем горле. Хоть бы глоток воды.
Ярош оперся на палку и сделал первый — самый трудный — шаг.
В дверь не постучали, а тихонько поскребли.
Но Ярош подскочил: «Женя!» Не думал, что так заколотится сердце. Казалось, все перегорело, даже пепел развеялся.
Она перешагнула порог, прислонилась к притолоке и подняла на него блестящие, серые, испуганно раскрытые глаза.
— Здравствуй, Саша, — вымолвила сразу охрипшим голосом, жадно вглядываясь в его похудевшее, желтое, давно не бритое лицо.
Он молча пожал ее холодные пальцы, невольно задержал руку в своей ладони.
— Сашко! — вскрикнула она, порывисто охватила его голову, приникла щекой к щеке и разрыдалась так отчаянно, что Ярош испугался. Плечи ее мелко дрожали, зубы выбивали дробь, от ее слез стало мокрым его лицо, он почувствовал их горько-соленый вкус на губах.
— Ну, Женя, не надо, — сказал Ярош, руки его тоже начали дрожать.
— Ой, Саша, — захлебываясь, говорила она, — выгони меня, я этого стою… Прокляни! Скажи все, что думаешь обо мне, все… Я заслужила. Ой, Саша, выгони, скажи.
— Не надо, Женя, — повторил Ярош, ввел ее в комнату и посадил на старый, продавленный диван.
Он тоже сел, поодаль, у стола, и только теперь посмотрел на ее тоненькую фигурку, на длинные худые руки, которые она бессильно уронила на острые колени, прикрытые выцветшей юбкой. Она еще плакала, но уже не так бурно, из закрытых глаз скатывались большие прозрачные капли и падали ей на руки.
— С первого дня войны я думаю только об одном: увидеть тебя, рассказать… Я так боялась, что мы не встретимся, Саша, ты должен, должен выслушать.
— Зачем?
Усталый голос его показался Жене суровым. Она подняла на него глаза, полные тревоги и боли.
— Нет, нет, ты должен меня выслушать.
Ярош пожал плечами:
— Что тут говорить, я и так все знаю. И что тебе было тяжело — я тоже догадывался.
— Правда, Саша? — кинулась к нему Женя, глаза ее блеснули и снова затуманились. — Спасибо тебе. Значит, ты знал, что мне тяжело. Что не так просто… Но что ж это я? Тебе было в тысячу раз тяжелее. Я постоянно думала об этом. Постоянно — день и ночь.
— Ну и все, — Ярош попробовал улыбнуться и хотел уже спросить, как это она осталась в Киеве, но Женя перебила:
— Саша, я понимаю: ты не хочешь возвращаться к этому. Но я должна рассказать… — И худые руки, на которые ему было так трудно смотреть, робко протянулись к нему.
— О чем?
— О том, что было.
— Было — прошло. Сегодня есть дела поважнее. Кажется, война идет.
— Саша, я должна тебе рассказать…