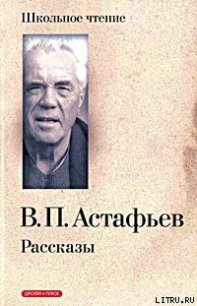Из тихого света - Астафьев Виктор Петрович (книги без регистрации TXT) 📗
Наконец девочка шагнула, будто с тонущего корабля за борт, все так же держась за шапочку и жмурясь от ветра. Пальтишко на ней было воробьиного цвета и покроя, тоненькое, с затянутым, завязанным в узел на животе пояском. Там ее не поддувало, но сильно хватануло за грудь, и девочка той рукой, в которой был бидон, попыталась зажать у горла пальтишко, прикрыть грудь перьями бортов, тоже похожими на короткие воробьиные крылышки. Из пальтишка девочка выросла, оно не захватывалось у горла и, сделав резкое движение, девочка сронила крышку с бидона. Ее, эту бедную белую крышку, вдруг подхватило ветром, поставило колесиком на ребро и быстро покатило по мокрому асфальту. Я как раз поравнялся с девочкой и бросился вслед за крышкой, пытаясь ее поймать, но никак мне этого не удавалось сделать — крышка вертелась, подпрыгивала, ускользала в сторону, шаталась, готовая вот-вот упасть, она снова и снова выправлялась на ребро, с веселым звоном, с бесшабашной удалью, катилась и катилась, с бульвара на улицу, где, поднимая вороха мутной воды из неровно накатанного асфальта, двигались грязные машины.
Долго, словно живая, играла с нами веселая крышка бидона, и мы с девочкой, захлебываясь ветром и смехом, гонялись за ней. Я уж начал подумывать — не плюхнуться ли брюхом на крышку и придавить ее, будто живую птаху, заграбастать и отдать девочке. Бог с ним, с пальто и с брюками. Вычищу. Зато настроение мое разом улучшилось, все недомогания, внутренняя отупелость пополам с раздражительностью, куда-то улетучились, опустились на дно души, хорошо мне разом сделалось, хотелось озоровать, будто мальчишке, прыгать, гоняться за чем-нибудь и за кем-нибудь. Но крышка приостановилась на скаку, завертелась волчком и опрокинулась вверх конусом, на котором круглилась белая бомбошка с желтым пятнышком. Желтое пятнышко при ближайшем рассмотрении оказалось цыпушкой. «Все! — как бы говорила своим смиренным видом крышка. — Задачу я свою выполнила. Развеселила тебя и девочку. Но устала. Сдаюсь».
Я поднял крышку с асфальта, непроизвольно шоркнул ее донышком о пальто, чтоб стереть со дна крышки грязное мокро, и, все еще улыбаясь во весь рот, с бряком водворил хулиганистую крышку на место, водворил и первый раз взглянул на девочку, глянул и чуть не отшатнулся: смутная тревога начала проникать в меня, сдавливая нутро, и хотя я все еще улыбался, но это уже была тень улыбки. Девочка — бледное, долговязое и большеглазое дитя большого города, смеявшаяся звонко, во весь свой большой и свежий рот, вдруг встревожилась, и ее заалевшие губы стали сворачиваться, закрываться, словно чуткий цветок на ночь, но до конца не закрылись. В полуоткрытом рту девочки светились два передних крупных белых зуба, будто лепестками украшая алый рот, во взгляде и дальше, за взглядом, за занавесью ресниц, накатывал на зрачки, расширяя глаза во весь размах, страх. Ни с чем не сравнимый детский ужас, смятение ли, ошарашенность…
Я где-то видел эту девочку, нет, не здесь, не в Москве, не во дни и годы ученья, нет, я знал ее очень давно, видел в каком-то другом месте, в тихом, слабом, недвижно-лампадном свете, овеянную еле ощутимым, реющим теплом. Но девочке лет восемь-девять, мне — за сорок, я никогда не жил в Москве, тем более на ее окраине, на так называемом Бутырском хуторе, и нигде и никогда не мог ни видеть, ни знать эту девочку. И все же: я видел ее давно, давно и всегда знал ее. Всю жизнь. Быть может, с младенчества. Она была не просто девочка, она была мне близка и родна. Я любил ее какой-то странной, отдаленной и до того невероятной, душу тревожащей любовью, что никому, даже самому себе, не смел в этом признаться, и любил я ее не блудной, не скрытной н грешной любовью. Какое-то бестелесное, на нежность похожее ощущение размягчало и успокаивало мое сердце. Девочка всегда была во мне и со мной, как тень моя, как моя душа, которую я лишь ощущаю, но не знаю — что она, где она, какая?
Девочка приближалась ко мне, делалась явственно-осязаемой, тогда, когда тускнел вокруг меня этот свет, отдалялся этот мир, и высвечивалось, оживало что-то другое, потустороннее, всегда покойное, всегда в каком-то отдаленном слабом сиянии, какое рисуют за крыльями ангелов, летающих по небу. Во время болезней, в госпитальном бреду, в беспамятстве, непременно возникала девочка, неслышно приближалась, была рядом, ничего не говорила, не протягивала рук, она просто присутствовала, просто смотрела и помогала мне дышать, переносить страдания, подвигала к выздоровлению. Я всегда боялся вспугнуть ее криком, громким стоном, пристальным взглядом, неловким движением. Она была бесконечно далека от меня и в то же время осязаемо растворена во мне, во всем, что было вокруг, ласково реющее тепло всегда было с нею, оно живительно веяло на меня, утишало жар, растворяло смертный морок, и я воскресал, возвращался к этой жизни, в этот мир. Девочка оставалась где-то там, за гранью моего прошлого сознания, однако вместе с нею не исчезала тоска по ней…
Но если я вовсе не видел, не знал московскую девочку, она тем более не могла меня видеть и знать. Я родился почти на сорок лет раньше ее, жил в другом месте, другой жизнью и помыслами. Это так естественно. И, тем не менее, я видел по смятенному взгляду девочки, что ее посетило, повергло почти в ужас какое-то знакомое и непонятное видение — она тоже узнала меня, узнала не как встречного, как еще одного дяденьку на улице, она узнала во мне кого-то, кто постоянно был в ней, восставал и присутствовал в ее жизни; в минуты помутнения ее разума, детского горя и слез, своим присутствием отделял ее от этого мира, полного тревог и обид, погружал в беспредельную тишину, в тот бледный, все успокаивающий свет. в то полупустынное, бесконечное пространство, где реет слабое, но волшебное тепло воображения и воскресительной нежности.
В безмятежные дни жизни моей мы не являлись друг другу, но были где-то рядом, готовые возникнуть по зову не сердца, нет, а чего-то совсем нам неведомого и умом нашим еще не постигнутого.
Девочка начала отступать, прижимая бидон за поднятую дужку к груди, как бы загораживаясь им. Сперва она просто пятилась, затем засеменила бочком, все не спуская с меня серых, до крика расширенных глаз, сделавшихся по-взрослому глубокими, как бы высветленными тем дальним, всевластным светом, и такая бездонная память, такое давнее страдание виделось в глубине их, что я содрогнулся от какой-то, тоже неведомой мне мысли или вины: «Что ты? Что ты?».
И я, и она — все понимали! Все! Я хотел успокоить девочку, объяснить и отъять от себя вину, но делать этого не надо было. Ни я, ни она объяснить ничего не могли. Нам было тоскливо, тревожно расставаться, и все же мы должны были расстаться. С каждым шагом, отдаляющим нас друг от друга, слабело во мне напряжение, уступая место тревоге и сожалению о чем-то.
Я хотел было окликнуть девочку, и она остановилась бы, замерла. Но я не смел этого сделать, да и не было во мне сил и способов это сделать. Природа, нас народившая, не наделила ни меня, ни девочку ответными возможностями, ответной силой, мы могли быть вместе лишь в давней памяти нашей, в какой-то заземной, занебесной среде, созданной, быть может, все той же памятью, или тем, что превыше и дальше нашего ограниченного сознания. За ним, там, где-то выше, дальше, что лишь подсознанием, мощным порывом гения, гениальным чувством, колдовским наитием, обрекающим его на неведомые простым смертным страсти и муки, на тоску и жгучую жажду прекрасного, к которому дано ему приблизиться, почти осязаемо почувствовать, узреть гармонию жизни и мира, может, и крушение их, осязание полета к распаду и неизбежному концу.
Всегда у гения в стихах, в песнях, на полотнах присутствует другой, едва угадываемый мир со спящей на холме прекрасной Венерой, виден еще один, дальний, запредельный, но в земное обращенный, будто бы к нам приближенный мир, освещенный едва-едва, что-то неотгаданно в себе таящий. Поэты и гениальные живописцы, музыканты никогда не кричат, не визжат, не перекладывают красок, говорят негромко в присутствии сотворенной ими спящей Венеры, не шевелятся, не гомонят, не кашляют даже, когда звучит великая музыка, они хотят смирения и прозорливости для того, чтобы мы увидели иль хотя бы почувствовали тот второй, нами неугаданный мир и свет.