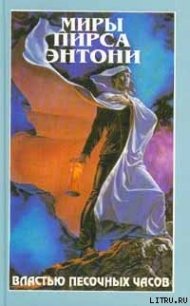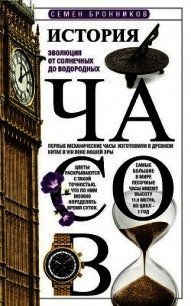Песочные часы (Повесть) - Бирзе Миервалдис (версия книг .txt) 📗

Эгле скончался в сентябре, в рентгеновском кабинете. Из санатория к дому его несли по той же самой дорожке, по которой он ходил двадцать пять лет дважды в день, мимо длинного санаторского корпуса, подобно белому пароходу, спокойно стоявшему в обрамленной липами и соснами зеленой гавани парка.
Гроб с телом несли врачи, служащие санатория, рабочие мелиоративной станции и просто жители поселка. Оказалось, тут нет человека, с которым бы Эгле не встречался, нет ни одной семьи, в которой он кого-нибудь не лечил, в особенности в годы войны и первые послевоенные, когда он частенько бывал единственным врачом на всю округу. Процессия прошла через весь поселок, мимо каштанов у школы.
Были для него в Аргале и радостные дни. Эгле всегда говорил: жизнь — это не только слезы или только — смех. Жизнь — это и смех и слезы.
Затем процессия подошла к небольшим воротцам, за которыми сверкала красными гроздьями рябина. У застенчивой дикой розы уже созрели красные плоды, они были даже ярче ее цветов.
Место последнего прощания. Здесь гроб установили на машину. Когда грузовик тронулся по направлению к Аргальскому кладбищу, а до него было километра два, где Эгле предстояло покоиться рядом со своими родителями и навеки слиться с землей, взвыла сирена кареты Скорой помощи. Она выла протяжно и печально, тревожно повышая голос и жалобно замирая.
Она прощалась с врачом. Военачальников и государственных деятелей провожают орудийным салютом; врача оплакивала сирена Скорой помощи.
В один из дней конца октября, когда солнце часто и подолгу прячется за облаками, которые осенью ниже, чем летом, Мурашка надел простую телогрейку, просторный дождевик и резиновые сапоги. Он поехал за город. В кармане у него лежал длинный список. Это был список больших камней, адреса валунов.
В унылом мелколесье неподалеку от Салацгривы он обнаружил то, что искал.
В этот серый день никого не было около камня. Чахлые сосенки, низкие, сырые тучи, камень и он, Мурашка. Мурашка прижался лбом к стылому граниту, и в памяти сами собой возникли картины прошлого: трудные годы ученья, когда он вместе с Эгле бегал на студенческую кухню пить молоко, потому что там можно было к молоку есть сколько влезет хлеба, вспомнил он и недавние «музыкальные реминисценции» дома у Эгле, когда Эгле и сам уже знал про это. Эгле работал, пока были силы. Бессмертие человека — это его труд.
Человек, он тоже как большой валун, вот как этот, обросший мхом. Из этого камня требуется изваять произведение искусства. То же самое человек должен изваять из самого себя.
Мурашка отправился на поиски трактора, чтобы глыбу мертвого камня подтянуть к дороге.
Минул год. Была весна. Зелень деревьев еще не потеряла свежести. На поляне перед санаторием легко покачивали головками тюльпаны. Рябина перед домом Эгле цвела желтоватыми неприметными цветами. В кабинете главврача собрались свои и приезжие врачи. За год здесь ничего не изменилось. На столе по-прежнему стоял футлярчик с песочными часами. Лишь на стене прибавился еще один портрет. Не в том ряду, где были Кох, Форланини, Павлов и Рентген, — нет. Портрет был помещен в углу, где стояла девочка с ягненком.
Эгле пришел бы в негодование, если б его портрет повесили в одном ряду с теми, чьи имена известны всему миру. Про себя он говорил, что он «один из тысяч, занявших место в промежутках между этими портретами». Он бы еще добавил, что родился и вырос в деревне и некогда пас на лугу скотину, и потому ему милее общество пастушки.
Вошла Гарша, на этот раз не в халате, а в черном костюме.
— Автобус подошел, — сказала она.
Все встали. Выходя из кабинета, врачи задерживали взгляд на Эгле, улыбавшемся обыкновенной улыбкой, а не той, кривой, за которой он прятался в последние месяцы жизни. Они поглядели на черное кресло у письменного стола, на него сегодня никто не садился. Гарша вышла последней, легко проведя рукой по спинке кресла.
Автобус остановился у Аргальского кладбища. Врачи присоединились к людям, обступившим могилу Эгле. Над могилой стоял накрытый светлым покрывалом памятник высотой в два человеческих роста. Кругом, как и бывает на кладбище, ставшем последним приютом нескольких поколений жителей, росли деревья — высоченные липы, которым уже пора побаиваться сильных бурь, несущих гибель доживающим свой век деревьям, и совсем еще юные, нежно-зеленые березки, у которых впереди самое малое полета лет жизни.
Памятник открыли. Речей было немного. Они казались здесь особенно излишни — ведь говорил большой салацгривский камень, оживленный Мурашкой, он и сказал те единственные, нужные слова.
Отполированный, почти черный валун. Сильный юноша стремится ввысь, к небесам, так же как и вершины стоящих позади него деревьев. Ноги его сковала бесформенная масса, черная сила, грубый, неотесанный камень. В напряженной, но не бессильной позе юноша сжимает свои плечи перекрещенными руками.
И все же он устремлен ввысь. Он принадлежит к тем, кого можно уничтожить, но не умертвить.
Памятник говорил, а вокруг стояли те, кто знал Эгле, и слушали. Пришел сюда и большой плотогон Вагулис с товарищами. На лице его словно было удивление — как врачи позволили Эгле преждевременно умереть.
Медсестра Крузе, тоже в черном костюме, пыталась понять, о чем же каждый из присутствующих сейчас думает, и поглядывала по сторонам. Ей было непонятно, почему не плачет Гарша и только неотрывно смотрит на исполненное тревоги лицо юноши, словно сама напряженно силится что-то вспомнить или понять.
Больше всего Крузе поразило то, что пришел Вединг, — он ведь уже здоров. Его долговязую фигуру с лицом монаха можно было без труда заметить среди всех присутствующих, хотя он и стоял в задних рядах. Наверно, Вединг постарел, потому что он больше не улыбался.
Мурашка стоял рядом с памятником. На Мурашке тоже был черный костюм. Кладбище он покинул одним из последних, вместе с Гертой, Янелисом и Берсоном.
Трудно было Мурашке уходить, потому что здесь осталось и его творение, и тот, кому оно посвящено. Хоть был это и «каменный сын», как говорил Эгле, однако тоже частица его, Мурашкиной жизни.
Домой возвращались пешком.
— Почему он себя не щадил? — ни к кому не обращаясь, заговорила Герта. — Мог бы еще жить и жить, и мы с Янелисом не были бы сегодня одни.
Никто не ответил ей, почему Эгле, когда был жив, не щадил себя.
Они подошли к дому Эгле и присели на ступеньках веранды.
— Чем занимаешься? — спросил Мурашка у Янелиса.
Янелис вытянул вперед свои руки. Они были чисто вымыты, однако под ногтями виднелась въевшаяся чернота.
— У мелиораторов работаю.
— Ну, а дальше?
— Пока не знаю. Осенью ухожу в армию. Наверно, пошлют в какую-нибудь техническую часть, я ведь вожу бульдозер. В армии придумаю, что дальше делать.
Мурашка обратил внимание, что Янелис теперь носит более длинную прическу, чем год тому назад. Ежик исчез. Янелис становится похожим на Эгле в молодости, только повыше ростом.
Герта вынесла бутылку холодного вина и стаканы. Все смотрели на сад, фиолетовую полоску анютиных глазок вдоль дорожки, на воротца. Сегодня Эгле не отворял их.
Выпили вино.
— Если б умер я, Эгле сделал бы то же самое, — проговорил Мурашка. — Когда-то мы говорили об этом.
— Вы… расскажите мне про отца, — потупив голову, попросил Янелис. — Он не успел мне всего рассказать про свою жизнь. У меня… мне всегда было некогда, молодой я тогда был.
И еще один незначительный эпизод.
В саду Эгле со стороны дороги росла сирень. Она еще не цвела, хотя среди листьев виднелись гроздья мелких бутонов. Однако девушке с белокурой косой, проходившей мимо, казалось, что они уже распустились и даже благоухают. Наверно, оттого, что аромат ее она хорошо помнила еще с прошлой весны.