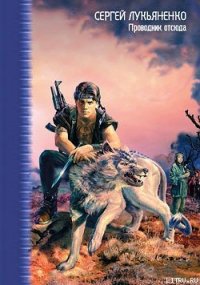Старая скворечня (сборник) - Крутилин Сергей Андреевич (читать книги полные TXT) 📗
Игнат: „Поклон вам, молодые наши! Живите в мире и согласии“».
— И тута не по-нашенски! — пошлыгав губами, снова заговорила бабка Курилка. — Почему колхозный сторож?! Это ведь изба жениха? А в доме молодого приехавших из церкви встречали отец с иконой и мать — с богородицей и корцом квасу. Молодые прикладывались к иконам, пили из одной кружки квас и кланялись в ноги родителям. У нас не встречали хлебом-солью. Это у хохлов, я слыхала, в старину так было… Али теперь и у нас свадьбы стали играть на такой манер:
— Да ты что, Евдокия?! — налетела на нее бригадирша. — При чем тут хохлы? Небось сценарий ученые люди сочиняли! Им виднее.
— Товарищи! Товарищи! — Серафим Леопольдович постучал своими белыми ладонями, призывая всех к порядку. — Наш фильм рассказывает не о вашем селе. В разных селах — разные обычаи. К тому же мы не стремимся к воспеванию старины. Мы стремимся показать зрителю нашу современную, колхозную свадьбу. Отсюда и новый ритуал, и новые песни. Но, конечно, с элементами старинных русских обычаев.
— Встречали и у нас хлебом-солью! — подала голос Фрося Котова.
— А можа, и встречали, — согласилась бабка Курилка. — Знать, запамятовала. Ить столько годов-то…
Старуха пошамкала беззубым ртом и, спрятав морщинистые руки иод стол, уставилась на Серафима Леопольдовича.
16
Бабка Курилка права: откуда ей помнить свадебные обряды? Своей свадьбы у нее не было. Хороши были в старину свадебные присказки да песни; жаль только, что их пели лишь в богатых семьях, а Евдокия выросла в семье батрака, который служил у ильинского барина. Помимо ее, в семье было еще пять девок, и потому родители очень обрадовались, когда ее взял за себя угрюмый с виду мужик-смолокур. Но у него, у смолокура, ничего, кроме вечно грязных рук и дырявых штанов, не было. Свадьбы не играли: просто Евдокия пришла в его лачугу, стоявшую на окраине деревни, у самого леса, и они стали жить вместе. У них было много детей; но одни померли от сыпняка в голод и разруху; другие погибли в последней войне, и теперь Евдокия осталась совсем одна. Правда, в молодости она была отменной певуньей, и ее звали на соседские свадьбы. Но это было давным-давно, при царе-кесаре. С тех пор бабка Курилка успела позабыть все песни и обряды — пред-венчальные, прощальные и величальные.
А за последние годы в Епихине свадьбы совсем перевелись. Молодежь — парни и девушки — завели такую моду: уходить из деревни в город. И там, в больших городах, в заводских бараках и общежитиях строительных трестов, находили милых их сердцу жен и мужей; сходились, справляли свадьбы, причем непременно в ресторанах и кафе; рожали детей, а родив, подбрасывали младенцев бабкам, и тут, в Епихине, они произрастали на свежем воздухе и даровом молоке.
Последняя свадьба в деревне была, кажется, лет пять назад. То была Митькина свадьба. Однако об этой свадьбе редко кто из епихинцев вспоминает теперь. Не потому, что мало было выпито; выпито на Митькиной свадьбе было много — может, больше даже, чем на всякой иной, старинной. Не помнят же ее потому, что это была свадьба тихая: без обрядов и песен.
Митька учился кое-как: засиживался то в одном, то в другом классе, не раз бросал школу, и мать, боясь председателя, снова приводила его в класс. В шестнадцать лет он с трудом окончил семилетку, и только тогда Шустов устроил его на ферму. Зимой Митька подвозил корма, а летом в его обязанностях значился лишь один пункт: отвозить бидоны с молоком на сепараторный пункт.
Молокозавод находился на окраине Полян, километрах в двух от фермы. Епихинская ферма, которую еще застал Тутаев, была небольшая, голов пятьдесят, не более. Надои, понятно, не ахти какие, молока мало, и потому Митька делал все спустя рукава. Погрузит он на двуколку бидоны, бросит в передок вязку сена или соломы, пристроится поудобнее и — «но!». Лошади тащатся помаленьку, а он сидит себе, привалившись спиной к бидонам, и дремлет. Дорога все больше в гору да опушкой леса: прохладно в тени берез, птички поют; думать ни о чем не хочется, оттого он и дремлет.
Завидя черную трубу молокозавода, Митька оживляется: начинает насвистывать, понукать кнутовищем лошадей. За покосившимся забором видна скучная двускатная крыша сепараторной, а рядом с ней — конусообразная башня, по которой сверху стекает вода.
По разбитой дороге Митька въезжает в ворота. Сразу же за воротами он огибает угол сепараторной и останавливается посреди лужайки. В сторонке, за березами, виднеется небольшой дом с голубыми ставенками — лаборатория.
Как только Митька останавливает двуколку, тотчас же на крылечко дома выбегает девушка в белом халате. Русые волосы ее собраны в пучок, который топорщится под белоснежной косынкой. В руках поблескивает молокомер.
— Добрый день, Митя! — говорит девушка, подходя к повозке.
— Добрый день, Галя.
— Приехал?
— Приехал.
Митя снимает с двуколки бидон и ставит его тут же, у повозки, на траву. Галя открывает крышку, берет пробу.
Но иногда Митя ленится снимать бидон, и тогда Гале приходится взбираться на повозку. Митя при этом помогает ей. Он подхватывает девушку на руки и, прижав ее к себе на какой-то миг, ставит на повозку. Когда Галя открывает бидон и берет пробу, Митя стоит рядом, любуясь со стройными ножками. Услыхав стук закрываемой крышки, он снова подхватывает девушку на руки и, как бы невзначай поцеловав ее, бережно опускает на землю. Галя — разумеется, больше для вида — отталкивает его. Оттолкнув, резво бежит в лабораторию. Следом за ней — не спеша, вразвалочку — шагает Митя. Пока Галя, сидя за столом, составляет актовку о жирности молока, Митя стоит, подперев плечом дверной косяк, и наблюдает за каждым движением девушки.
В лаборатории чисто, пахнет молоком и ландышами.
Галя любит цветы. На подоконниках и на шкафах, в которых храпятся папки с копиями актов, стоят комнатные цветы: в горшках и консервных банках. А весь стол заставлен широкогорлыми бутылками из-под молока, и в каждой — по букету пахучих лесных ландышей.
Покончив с делами, Галя подает Мите копию квитанции, где проставлен процент жирности молока. Митя вместе с бумагой заграбастывает в свою огромную ладонь ее руку и держит минуту-другую, не отпуская. Галя легко вскрикивает от боли.
— Митя, отпусти! Слышишь?!
— Обхаживают? Да? — говорит Митя, кивая на цветы.
— Да. А что?
— Так.
Митя отпускает ее руку и, потоптавшись у порога, отправляется сгружать бидоны. Галя, придвинувшись к окну, наблюдает за ним, и лицо ее светлеет от улыбки.
Как-то года два они учились вместе: не то в пятом и шестом, не то в шестом и седьмом. Митя засиделся, а Галя перешла в другой класс. Учеба ей давалась легко, но в семье случилась беда: умер отец, и Гале, старшей из сестер, пришлось бросить школу и определиться на работу, чтобы помогать матери.
Галя поступила лаборанткой на молокозавод и продолжала учиться в вечерней школе. На молокозаводе она стала часто встречать Митю. Он неловко и грубовато ухаживал за ней. Она слегка кокетничала с ним. Галя была девушка аккуратная, веселая, работящая. Мите она нравилась. Если и был у нее какой недостаток, так это ее насмешливость. Галя не упускала случая, чтобы не посмеяться над его медлительностью и неповоротливостью. Однако ей нравилось его ухаживание, и она с удовольствием продолжала эту игру.
Как-то летом, в конце июля, Митя привез на завод бидоны с молоком вечернего удоя. Все было как всегда… Увидев двуколку, Галя выбежала из лаборатории; он поднял ее на повозку; она взяла пробу и выписала ему квитанцию, и он сдал молоко в сепараторную и, тарахтя пустыми бидонами, выехал за ворота.
— Подвези, ухажер! — У проходной, в тени забора, стояла Галя.
— A-а, Галка! — обрадованно воскликнул Митя. — Садись.
Он попридержал лошадей; подхватил Галю, усадил рядом, и они поехали. Ему и раньше случалось подвозить ее домой, а недели две назад, когда пошли «колосовики», он возил даже ее с меньшими сестренками в Бортниковский лес, и все обошлось хорошо, без всякого озорства.