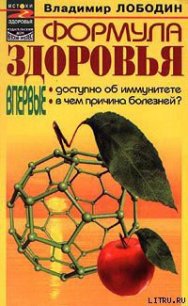Формула памяти - Никольский Борис (бесплатные серии книг .TXT, .FB2) 📗
Было уже семь часов, а я все так же неподвижно стоял у окна и смотрел во двор. Я уговаривал себя, что так разумнее, что так надо, что будет лучше, если о н и не узнают, не догадаются, что Юля идет именно ко мне. Тогда они не тронут ее.
Как хорошо, как отчетливо я помню ту минуту, когда Юля появилась в нашем дворе! Она подняла голову, разглядела меня за стеклом окна и весело помахала мне рукой. Они действительно не тронули ее, мой расчет оказался верен. Но как бы там ни было, я уже знал, что сегодня, сейчас предал ее, бросил на произвол судьбы. Это произошло, и это было уже непоправимо, чем бы я ни оправдывал этот свой поступок, это свое малодушие.
В тот вечер я был неестественно оживлен, острил, сам хохотал над своими же остротами — одним словом, всячески старался скрыть истинное свое состояние. Не столько даже Юлю, сколько себя самого обмануть пытался.
Юля пробыла у меня недолго. «Пойдем, — сказала она. — Проводи меня». И я покорно надел свою куртку, сшитую из отцовской шинели. Мы вышли во двор. Была осень, рано темнело, и сейчас в подворотне, словно в длинном мрачном тоннеле, мерцали только огоньки папирос. И тут меня охватил страх. Я уже знал, что они меня не пропустят. Но я заставил себя пройти эти несколько шагов и услышал, как Мыло, выдвигаясь из темноты, произнес игриво: «Петушок с курочкой, цып-цып-цып…» Я весь напрягся, но сделал вид, что не слышу. Если бы они ограничились одной этой дурацкой шуткой! Однако Мыло не отставал. «Что это ты не здороваешься?» — спросил он, загораживая мне дорогу. И в следующий момент его потная ладонь проехалась по моему лицу снизу вверх. Я дернулся, я хотел ударить его, но меня тут же схватили за руки, выламывая их так, что я согнулся. «Мальчики, вы что!» — закричала Юля. Но было уже поздно. То, чего я опасался, произошло. На глазах у Юли они унизили меня наиболее жестоко и гнусно. В отчаянии, когда они отпустили меня, я бросился на них, но они разбежались, исчезли, как будто их и не было…
Остаток этого вечера и всю ночь я провел точно в лихорадке. Я думал только об одном: как можно жить дальше с памятью об унижении? Мне казалось это невыносимым. Я корчился от желания немедленно очиститься, содрать с себя эту грязь, но уже понимал: воспоминания об этом вечере будут преследовать меня всю жизнь. Я и сейчас спрашиваю себя: может ли жить человек с памятью об унижении? И не знаю, что ответить. Может быть, я оттого и сюда, в институт этот, пришел, что мучил меня этот вопрос. А вот тогда, ночью, мне пришла в голову мысль о моем п р а в е расплатиться. Имел ли я в действительности такое право, не знаю, до сих пор не знаю. Потом уже, во время следствия, мне говорили, что я был ослеплен ненавистью, что мне надлежало взять себя в руки, успокоиться, поступить разумно — то есть заявить в милицию. Что же, мол, будет, если каждый по п у с т я к а м начнет творить самосуд? Но мне кажется, эти люди просто никогда не знали, что значит быть так жестоко и мерзко униженным, какая это невыносимая пытка!..
Утром отец подтрунивал надо мной, он был уверен, что причина моего нервного состояния в моей влюбленности. Мама обеспокоенно поглядывала на меня, пыталась выспросить, что со мной. Она была более чутким человеком. Но я ответил: «Ничего, все в порядке». И правда, с того момента, как я ночью, в полубреду принял решение, как понял, что у меня е с т ь п р а в о, я почти успокоился. Впрочем, это мне, конечно, только так казалось, будто я спокоен. На самом деле нервное напряжение владело мной все время, потому я почти не помнил, как провел этот день. Я только боялся, что Мыло почует, ощутит угрозу и не придет. А может быть, я и сам втайне хотел этого? Не знаю. Все тогда перепуталось в моей душе. Вечером я возвращался домой и уже издали видел — они там, в подворотне. Дрожь начала бить меня. Не знаю, хватило бы у меня решимости сделать то, что я задумал, если бы вдруг Мыло не задал тот же самый дурацкий вопрос, что и вчера: «Что это ты не здороваешься?» Он не был особенно изобретателен. Слова эти, повторенные с тем же, в ч е р а ш н и м, угрожающим смешком, подействовали на меня, как мгновенный удар током. В ослеплении, в ярости я бросился на него и, выхватив нож, ударил не глядя, куда попало, наугад. Что было потом, я плохо помню. Кто-то закричал, меня ударили. Какие-то люди вели меня куда-то. А я ощущал, как ватная слабость разливается по всему моему телу… Словно я долго тащил какой-то необыкновенно тяжелый груз и вот теперь сбросил его, освободился — такое тогда у меня было чувство.
Вот так и закончилась моя история. К счастью моему, Мыло остался жив, хотя я вполне в тот момент мог убить его. Я сознаю это. Много лет спустя я как-то встретил его на улице Пестеля возле винной забегаловки. Он был сильно пьян, но все же узнал меня. Слюнявым ртом он бормотал что-то нечленораздельно-восторженное и все пытался задрать рубаху, чтобы показать шрам…
А тогда меня судили. Процесс привлек к себе внимание, о нем даже писали в одной центральной газете, — если хотите, я как-нибудь принесу вам вырезки, покажу, это любопытно. Спор между защитой и обвинением шел о степени моей вины. Впрочем, формально у меня почти не было смягчающих обстоятельств: свидетелей у меня не оказалось, даже Юлю родители увезли куда-то подальше, опасались, что участие в судебном процессе может плохо отразиться на ее нервной системе. Да я был и рад этому. Слушать показания Юли здесь, на суде, мне было бы слишком тяжко и стыдно. Медицинская экспертиза не обнаружила на моем теле никаких следов от побоев, так что говорить о том, что меня били и я был вынужден обороняться, у защиты не было никаких оснований. Психиатры признали меня вполне нормальным, уравновешенным человеком. Так что вина моя была вне сомнений. «На ребяческие, пусть даже неумные порой, шутки, на мальчишеские, пусть даже жестокие иногда, шалости подсудимый счел возможным ответить ударом ножа, едва не оборвавшим человеческую жизнь…» — это из речи прокурора. Я до сих пор помню эти слова. Правда, защитник пытался убедить суд в том, что я был доведен до крайности, до предела, но — повторяю — убедительных доказательств тому было мало…
Приговор оказался достаточно суровым. Больше всего во всей этой истории мне было жаль моих родителей: события эти буквально убили их, все было для них как гром с ясного неба. Случись мне теперь заново, как говорят современные программисты, проиграть ту же самую ситуацию, единственное, из-за чего я, может быть, заколебался бы, так это из-за них — из-за отца с матерью…
Гурьянов замолчал. Он выглядел сейчас обессиленным и разбитым. А может быть, он уже жалел, что был так откровенен? Леночка догадывалась, как нелегко далась ему эта откровенность.
Отчего-то не решаясь поднять глаза, Леночка молча смотрела на его руки, лежащие на столе. Пальцы у него были в каких-то шрамах, ссадинах, следах от ожогов. Совсем недавно у кого-то Леночка уже видела похожие руки. Ах да, у Терентьева. Тогда она еще подумала: «Руки, по которым можно определить и судьбу и характер… Мужские руки…»
И вдруг совсем неожиданно для себя самой, как бы даже независимо от собственной воли, движимая то ли еще не испытанным прежде чувством глубокой нежности, то ли женским инстинктом сострадания, Леночка осторожно прикоснулась к руке Гурьянова…
«…Сравнительно широкое распространение получили взгляды на б е л о к к а к в е р о я т н ы й н о с и т е л ь с л е д о в п а м я т и.
С точки зрения теории информации молекула рибонуклеиновой кислоты (РНК) является чрезвычайно удобным и экономичным носителем памяти. Если различные состояния молекул РНК нервной клетки создаются перестановками и комбинациями нуклеотидных элементов, то число таких различных состояний достигает значения, которое в переводе на единицы информации составит 10 15 —10 20 бит. Такая информационная емкость вполне объясняет громадный объем человеческой памяти.
Слабое место гипотезы о хранении информации в «перенуклеотидированных» молекулах РНК состоит в том, что они сравнительно недолговечны. Время существования таких молекул не превышает 12 минут, а долговременная память простирается на десятки лет. Поэтому поиски субстрата памяти обратились в сторону более долговечных компонентов молекулярной организации нервной клетки.
Таким весьма долговечным компонентом, сохраняющим свою структурную и функциональную стабильность практически на протяжении всей жизни, является хромосомный аппарат клетки и его носитель генетической информации — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). В настоящее время все больше исследователей склоняется к тому, что в формировании долговременной памяти участвует ДНК ядра нервной клетки.
Открытая недавно возможность передачи информации в обратном порядке, от РНК к ДНК, подтверждает реальность участия ДНК в фиксировании памятных следов событий индивидуальной жизни».
Странно. Разумом я все это понимаю и даже восхищаюсь достижениями науки. Но в то же время… В то же время мне как-то трудно, почти невозможно свыкнуться с мыслью, что вся моя жизнь, точнее — все переживания и волнения, и горе, и радость, навсегда остающиеся в памяти, — все это лишь некое состояние белка, химические изменения молекул и клеток. Неужели только и всего? Неужели так просто? Прежде я никогда не задумывался над этим.
Вот мы говорим: личность, индивидуальность… А вот я беру самый простой, элементарный пример. Когда я, допустим, принимаю таблетку успокаивающего и постепенно состояние мое меняется, я испытываю покой, умиротворение, когда меня перестает волновать то, что еще недавно приводило в отчаяние, я спрашиваю: так где же все-таки моя личность, индивидуальность, а где элементарная химия?
Однажды мне рассказывали: во время блокады бывали случаи, когда дистрофик от голода удивительно глупел, становился другим человеком, его мозг, его психика словно бы перерождались. И опять я спрашиваю: можно ли было его винить за это? Тогда или впоследствии? Должен ли был он стыдиться своих поступков? И вообще — он ли это был? Или уже другой человек? И какова же цена нашей индивидуальности, если она зависит от количества и состояния белков?.. Наверно, я преувеличиваю, утрирую, но с этим трудно смириться… Впрочем, вообще смиряться — это не в моем характере…