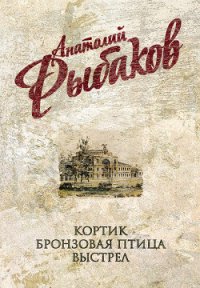Встань и иди - Нагибин Юрий Маркович (бесплатные версии книг .txt) 📗
А на другой день мы пошли к Фисаньке. Я выплакал в себе столько боли, что мне казалось - теперь все будет лучше, светлее, легче. Я заранее готов был принять подругу отца, милую, бескорыстную женщину, да еще "маминого типа".
На краю Рохмы, в рослых лопухах, торчала на покосившейся обомшелой тесовой крыше кирпичная, готовая вот-вот рухнуть труба. Крошечный домишко с кривыми оконницами врос в землю. Со своей непомерно длинной и узкой трубой он напоминал чем-то старый, помятый самовар. Вокруг домика развешано мокрое белье, такое запользованное и ветхое, что стирка не могла вернуть ему белизны. Ветер дул в дырявые паруса простынь, они надувались и тут же обмякали с коротким влажным хлопком. Мы вошли в дом, вернее, спустились в него, как в неглубокую яму. В полутемных сенях стояла невыносимая вонь помойного ведра и чего-то скисшего, сопревшего. По контрасту воздух в тесной комнате показался чистым. "Так вот где происходит любовь отца",думал я, обводя взглядом худую металлическую кровать с горкой серых подушек, стол, крытый темной, засаленной клеенкой, поломанные стулья и какое-то пузатое, бесформенное сооружение, бывшее когда-то не то комодом, не то буфетом.
Из-за ситцевой занавески, отгораживающей угол комнаты, появилась подруга отца, сравнительно молодая женщина со светлыми волосами и большим неподвижным лицом. На подбородке у нее был довольно приметный нарост. Кажется, глаза у нее были хороши, но их синий сверк мелькнул на краткий миг и спрятался под большую упрямую лобную кость. До конца нашего визита я так больше и не увидел Фисанькиных глаз. Впрочем, и лица ее я тоже толком не разглядел. Она прятала все, что только можно спрятать: глаза, лицо, руки, грудь, ноги, на обозрение оставались лишь широкие плечи да сутулая, натруженная спина. Тщетно силился я отыскать в ней "мамин тип", угаданный отцом. Но все же было, наверное, в ней что-то, отчего она приглянулась отцу, отчего он выбрал ее среди всех столь схожих с нею подруг. Тут не могло быть ошибки. Верно, таким и становится "мамин тип" под гнетом рохомской жизни, под чудовищным давлением нищеты, полуголода и непосильного труда.
Рохма верна себе во всех звеньях, напрасно тешился я радужными надеждами в это утро. Фисанька не дозволила себе ни одного сколько-нибудь симпатичного движения, ни одного доброго слова. Ее редкие, под нос, отрывистые речи в ответ на все любезности отца, желавшего нас подружить, были выдержаны в известном ключе: не замай. Что-то грубо-отстраняющее, угрюмое, тупое и затаенное. "Она стесняется",- шепнул мне отец. Я никогда не видел столь неизящной и непривлекательной дикарки. Наконец после многочисленных, робких, хотя и тщетных, намеков отца на "самоварчик" мы распрощались с Фисанькой.
- Она ревнует,- сказал отец по дороге домой.- Она боится, что старая семья отнимет меня у нее.
Я честно признался, что Фисанька мне не понравилась.
- Неужели ты не заметил, что она с мамой одного типа? - удивился отец, нисколько не обиженный.- Это тип Лили и Эльзы, мне всегда нравились женщины этого типа.- И он принялся вспоминать прошлое.
А вечером, роясь в книгах, наваленных грудой на столе отца, я обнаружил толстую тетрадь в белой обертке. На обертке было написано: "Текстилиада". Тетрадь содержала формулы экономических расчетов, эскизы текстильных машин, диаграммы, цифровые выкладки: отец осваивал новую для него область работы. Я уже хотел отложить тетрадь, как вдруг наткнулся на куда более близкий мне текст. Это было начало литературной статьи, речь шла о познании мира средствами искусства. Я стал читать статью, силясь вспомнить, кому она принадлежит. Формулировки были сжатые, ясные и отточенные. Для "демократической" критики слишком дельно и беспафосно, для Константина Леонтьева слишком современно.
- Знакомишься с моими опытами? - проговорил отец. Уютно устроившись на кровати, он курил, сбрасывая пепел мимо вазочки, заменявшей ему пепельницу.- Я хотел развить тут одну мысль Толстого, по-моему, недостаточно оцененную...
Ужас "каморок", Фисанька, слепцы с самоварной трубой, вся мразь и жалость рохомской жизни не коснулись отца, словно он был заключен в незримую и непроницаемую оболочку. Он жил широко и вольно, не теряя связи ни с чем в большой жизни; лишенный всего, что составляет обиход человека, он ничего не лишился в себе, но не делал из этого позы, и оттого мне, молодому, суетному и слабодушному, так трудно было увидеть настоящую его высоту.
Я долго думал об этом, лежа на жесткой постели с потухшей папиросой в руке. Отец давно уснул, как умер, столь тихим, неслышным было его дыхание, но еще долго огромной летучей мышью металась по комнате хозяйка в сером балахоне, томимая своими беспокойными и тщетными желаниями.
20. В Москве
Прошли годы, странная формула "семь и четыре" наконец-то исчерпала себя. Отцу вернули все права свободного гражданина. Теперь он мог расстаться с Рохмой и переехать в Тейково, или Нерль, или даже Шую, более крупные города не рекомендовались. Теперь он не должен был каждый месяц являться к районному уполномоченному МВД, достаточно было приходить раз в три месяца. Теперь он мог проводить свой отпуск, где ему заблагорассудится, конечно, с разрешения того же уполномоченного. Словом, он был свободен, как ветер. И, опьяненный своей новой свободой, отец собрался в Москву. Ему пришлось трижды перекладывать отпуск; районный уполномоченный, не решаясь взять на себя ответственность, запрашивал область, а та, в свою очередь, сносилась с Москвой. Наконец весной 1948 года разрешение было получено, и в один из солнечных майских дней отец постучался в дверь нашей квартиры.
Мы его ждали. Мама сменила неизменный халат на юбку и кофту, причесалась и даже подтянула чулки. Дашура побрилась и надела чистый фартук. Лицо у нее было заплаканным, но не от растроганности. Я попросил испечь лепешку, как в доброе старое время, а Дашура по дряхлости забыла рецепт, за что ей жестоко досталось от мамы.
Дашура открыла дверь, поздоровалась с отцом и вышмыгнула на лестницу, чтобы забрать его чемодан.
- Ну, здравствуй,- сказала мама, подходя к отцу.