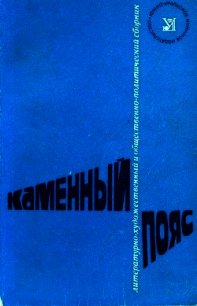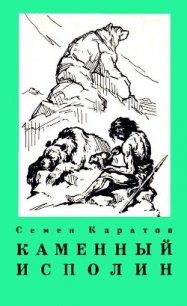Каменный Пояс, 1982 - Рузавина Валентина Васильевна (читать онлайн полную книгу txt) 📗
Осень в тех местах обычно сырая, слякотная. А эта была наособицу: дождь как зарядил в начале сентября, так и сыпал, сыпал с упрямством и заметной злостью почти что до самых заморозков. До чего же он был прилипчив и надоедлив, вспомнишь и — мороз по коже. Стоит ли говорить, как тяжело было в те дни в деревне: молодых мужиков можно было увидеть только в МТС, а в колхозах — одни бабы, измученные за годы войны, одинаково поблекшие и все вроде бы уже пожилые, бабы, на диво терпеливые, неприхотливые ребятишки да старики. Старики сходили тогда за настоящую «рабочую силу».
Я только что прошлепал по грязной дороге что-то около двадцати километров, возвращаясь из дальнего колхоза, куда райком посылал меня уполномоченным и где я прожил с десяток дней, подгоняя тамошнее начальство и, как мог, помогая ему. Переодевшись в сухое и поев всухомятку, пошел в редакцию, чувствуя, что от короткого отдыха и еды совсем ослаб.
Какая все же прелесть сидеть за чистым столом, в теплом кабинете и лениво смотреть, как на улице в скучной туманной серости все еще хлещет дождь. Только бы никто не потревожил меня, не нарушил моей временной кабинетной идиллии. Но!.. Вы замечали: стоит только подумать и — вот оно!..
Резко звякнул телефон. Я услышал сипловатый голос секретаря райкома Федора Васильевича:
— Приехали?
— Приехал. На своих двоих.
— Ну как там дела?
«Как сажа бела. Тяжело».
Конечно, я только думал так, а отвечать старался серьезно, называл цифры.
В трубке послышалось тяжелое пыхтение-сопение, и я насторожился. Когда Федор Васильевич хотел выразить недовольство кем-то или чем-то, кого-то покритиковать, он всегда так вот угрожающе пыхтел-сопел. Недолго — секунды две-три. Попыхтит-посопит и начинает…
— Мне кажется, что в газете надо бы побольше и как-то поактивнее писать об уборке.
— Да разве мы мало пишем? Вся первая страница об уборке. И даже на второй странице есть…
— Слишком уж все в спокойных тонах. И много похвальбы. А положение создалось, сами понимаете…
Я начал перечислять критические материалы, напечатанные в газете, их было совсем не мало.
— Сейчас надо бить тревогу.
Это походило на Федора Васильевича: в трудную пору этот, в общем-то, вроде бы покладистый, человек и работяга без меры нервничал, раздражался, охал, суетился, не спал сам, не давал спать людям, порол горячку, создавая ненужную нервозность, которую он понимал как «трудовое напряжение». Что поделаешь, мало осталось в войну в сибирских деревнях грамотных опытных мужчин, всех поглотил ненасытный фронт. Но фронтовики прибывали и позднее, месяцев этак через восемь Федора Васильевича уберут из райкома. А тогда, осенью, он был еще у власти и в силе.
Итак, что же было дальше? Я стал листать подшивку газеты.
— Вот!.. Даже «шапки» на первых полосах говорят за себя. Вот, к примеру: «Порадуем Родину отличным трудом на полях», «Хлеб — наше богатство и сила! С честью выполним свои социалистические обязательства по хлебоуборке и хлебосдаче!»
Телефонная трубка посапывала:
— Это лозунги для обычного времени.
— А вчера вон дали подборку под общим заголовком «Все — на спасение урожая!» Основной материал в этой подборке озаглавлен: «О вреде «мокрых» настроений».
Кажется, он еще не видел вчерашней газеты.
— Критических материалов у нас и без того много. Мы не можем давать одни отрицательные материалы да еще под крикливыми заголовками.
Федору Васильевичу не нравились мои возражения, они его прямо-таки бесили — я это чувствовал. Сам я тоже раздражался. И чем больше мы раздражались и сердились, тем больше старались казаться спокойными и вежливыми. Понимали, что фальшивим, но делали вид, будто ведем обычный деловой разговор.
Вот в эту-то пору и заявился Андреич. Конечно, я хотел вежливо ответить на его приветствие, но получилось суховато, даже недовольно: Федор Васильевич вконец испортил мне настроение. На Иевлеве был новый плащ, новая кепка, но выглядел он все же неважно как-то — дышал тяжело, будто пробежал верст этак десять по грязи, лицо осунулось и потемнело.
— A y меня для тебя кое-что есть.
Я думал, он принес корреспонденцию об уборке, это было бы кстати, но Андреич заговорил о другом:
— Ты знаешь Машухина? Старшего лейтенанта, бывшего штурмана эскадрильи.
Ведь уверен, что не знаю, это даже по его голосу заметно, а спрашивает.
— Он тут с весны у нас. Отсюдова родом.
— И что же?
— Так вот!.. У них с женой четверо приемных сыновей. Это ведь редкое дело, правда. Взяли четырех мальчишек из детдома и таскали их с собой по всему Дальнему Востоку.
— Он что, не был на фронте?
— Был в сорок пятом. Даже ранен. А до этого их эскадрилья размещалась где-то далеко в тайге. Он на казарменном положении, а жена с ребятишками в селе.
— К чему ты все это рассказываешь, Андреич?
— Да ты послушай прежде. Потерпи, я недолго. Паек на ребятишек им выдавали, конечно. Но уж какой там паек, смех один. А летчиков кормили очень даже хорошо. Только продукты им на руки не выдавали. Ешь тока в столовой. И уносить что-либо из столовой строго запрещалось. Но Машухин, представь себе, утаскивал. То, говорит, котлетку оберну в клочок газеты и незаметно суну в карман. То каши — в кулек. То еще чего-нибудь. Я, дескать, здоровый и могу совсем мало есть. А им не хватает. Им надо расти. Однажды его, понимаешь, засекли. Увидели, как он сует в карман какую-то еду. И кто-то из начальников грубо обругал его. Прямо при всех. Посмотрел бы, как он играет с ребятишками. Крику-то, смеху-то скока, батюшки!
Андреич и сам начинает смеяться.
— Как встретит меня, так давай рассказывать о своей ребятне. «А Колька-то мой опять синяков и шишек себе насадил. На дерево полез и сорвался. Ну ни минуты, дескать, на месте не усидит». Я бы и сам написал о них, но ты же знаешь — не получается у меня с этой писаниной.
Все это было интересно, конечно, но не совсем ко времени. И я сказал Иевлеву, что напишем о Машухине и его ребятишках, но попозже. Не скрою, пространные рассуждения Иевлева раздражали меня. Он видел, а точнее, чувствовал мою нетерпеливость и напряженность и напрягался сам.
— Машухин собирается в город лечиться. И кто его знает, скока он там пролежит. Ты уж счас бы с ним поговорил.
— Сейчас мне не до Машухина.
— Ну, вечерком заглянул бы.
— И вечерком некогда. Обещаю — напишем. Но позже.
— Когда позже?
— После уборки, — я махнул рукой. — Извини, некогда!
Это была моя последняя встреча с Андреичем. Зимой он умер, кажется, от сердечной болезни, что было неожиданно для всех: он не жаловался на сердце.
Отвыкнув от штатской жизни, я думал — вот наивная душа! — что таковы уж у Андреича служебные обязанности — всем помогать, всех обо всем информировать, что-то вроде инструктора по быту, по жалобам.
Опять пришла весна, опять — половодье, великий круговорот, совершаемый, в общем-то, безучастной к нам, людям, матушкой-природой. Я позвонил мужчине, который занимал должность покойного Андреича и услышал в ответ:
— Лодку?! А я тут, собственно, при чем?
Голос вежливый, мягкий такой, интеллигентный голос. Но каким холодом отдавало от него.
— До вас один тут товарищ требовал автомашину. Как будто я заведую гаражом. Смешно, ей-богу! Это никак не входит в мои обязанности, уважаемый товарищ редактор.
В его голосе затаенная ухмылка, — редактор, а не понимает такой простой истины.
Я с горечью отметил в эту минуту, что Андреича люди ругали, пожалуй, чаще, чем кого-то другого. А вот нового работника вроде бы и не ругают. Вроде бы не видят его. Странно, не правда ли?
Уж лучше не думать обо всем этом. Тем более, что весна нынче другая, не похожа на прошлогоднюю, славнецкая весна, тихая, теплая, с ослепляющими солнечными бликами, разбросанными по всему необъятному разливу реки.