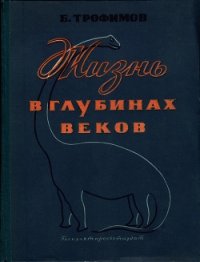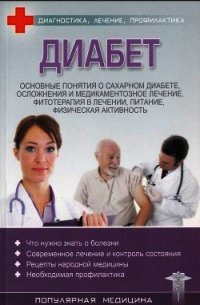Единственный свидетель(Юмористические рассказы) - Ленч Леонид Сергеевич (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
— Мелочью, о которой даже и говорить-то неловко такому серьезному человеку, как вы, Павел Николаевич.
— А по-моему, мелкой ложью, которая не к лицу такому серьезному человеку, как вы, Иван Семенович… А последний случай с телефонным звонком Тимофеева?
— Типичная оговорка!
Они замолчали. Говорить было не о чем.
— Подведем итоги, — сказал Кумыкин после неприятной, тяжелой паузы. — Я считаю, что вы солгали во всех трех случаях, а по-вашему, вы в первом случае сманеврировали, второй вообще считаете мелочью, а в третьем не солгали, а оговорились. Договориться мы не сможем. Пишите заявление, Иван Семенович, обсудим на редколлегии: вопрос принципиальный!
— Обязательно напишу! — твердо заявил Фуфаев. — Я уважаю стенную печать, но и стенная печать должна, так сказать, уважать объекты своего критического внимания.
Ему понравилась звонкость этой фразы, и он повторил с удовольствием:
— Да, должна уважать! Потому что сегодня я объект стенной печати, а завтра субъект.
Кумыкин посмотрел на важное, толстое лицо Фуфаева и неделикатно усмехнулся.
— Пишите, пишите, Иван Семенович! — сказал он, сразу погасив смех и спрыгнув с подоконника.
Фуфаев пошел к себе. На душе у него было скверно. Он уже жалел, что сгоряча затеял этот разговор с Кумыкиным, и думал, что, пожалуй, подавать заявление не стоит, чтобы не «раздувать кадило», но когда увидел у стенгазеты сослуживцев, со смехом рассматривающих карикатуру, тягостное ощущение стыда и обиды снова охватило его с такой силой, что он даже зубами заскрипел от злости на нахальных стенгазегчиков. Он быстро прошмыгнул в кабинет. На сочувственный вопрос Усовича: «Ну, как?», резко ответил: «Никак!» — и сел сочинять заявление в «Наш рупор».
Писалось ему сначала нелегко, но потом вошел во вкус, и перо его быстро забегало по бумаге.
Когда на столе звонил телефон, Фуфаев коротко бросал в трубку: «Идет заседание, звоните позже!» — и продолжал строчить, укоряя и обличая.
«Вы очернили меня, абсолютно правдивого, прямого человека, — писал он, повторяя шепотом, про себя, слова, возникавшие на бумаге, — написали, что я Мюнхгаузен…»
Снова звонок. И снова Фуфаев коротко бросает в трубку:
— Занят, не могу!.. Выполняю срочное задание руководства!.. Да, да, приказано все отложить…
И снова строчит:
«Я с детства питаю отвращение ко всякой лжи…»
…Заявление получилось красноречивое, убедительное, со «слезой».
1953
Дорогие гости
Если пройти через общий зал кафе-ресторана, то направо, рядом с кухней, вы обнаружите дверь в маленькую полутемную комнатку, которую официанты — между собой — называют «кормушкой».
В комнате этой, навечно пропахшей стойкими запахами подгорелого лука и пережаренного масла, посетителей не бывает, но она всегда прибрана, и стол — на всякий случай — застелен чистой скатертью. Она имеет свое, особое назначение.
Сегодня в «кормушке» сидят за столом сам директор районного треста ресторанов Полушалкин Никанор Ильич — важного вида мужчина, еще молодой, но уже раздобревший, с зачесом волос на бледном лоснящемся лбу, как у Наполеона Бонапарта, и плановик того же треста Борис Семенович Кулек — пожилой, хилый, в очках, с быстрыми, нервными движениями. Зашли они в кафе-ресторан «Богатырь» с инспекторско-ревизионной целью — обследовать. Обследование заключалось в том, что начальство постояло в общем зале минут пять, покурило, потом заглянуло на кухню, где у огромной раскаленной плиты суетились потные повара, а оттуда проследовало в «кормушку». Там все уже было готово, — со сказочной покоряющей быстротой на столе появились блюда с закусками и разнообразные бутылки и графинчики. Директор «Богатыря» Караев, жгучий брюнет с сизыми, почти синими щеками, сам руководил приготовлениями и на угощение не поскупился.
На столе все, что твоей душеньке угодно: икра в вазочках, масло, розовая семга, тающая в собственном жиру, маслины, похожие на миниатюрные пушечные ядра, салаты всевозможных фасонов, тарелка со слоеными пирожками и блюдо с холодным поросенком, скалящим зубки с таким человечески-живым выражением обиды на бледной малокровной мордочке, будто он, поросенок, сейчас встанет и спросит едящих его: «Что вы со мной делаете, растакие вы и разэтакие?»
Обследователи сидят за столом, выпивают, закусывают — подводят итоги обследования. Караев, как гостеприимный хозяин, разливает водку по рюмкам, раскладывает салат по тарелкам.

— Никанор Ильич, дорогой, — говорит он, с опаской поглядывая на методически жующего Полушалкина, — скажите слово! Какие будут ваши замечания-указания, директивы-коррективы? Вы — наш отец, мы — ваши дети. Учтите!
Полушалкин лениво усмехается, важно молчит.
Сказать что-то нужно. Но что?
Пришел Полушалкин в подведомственный ему кафе-ресторан не давать директивы-коррективы, а просто выпить и закусить. Заскучал, сидя в кабинете в тресте, надоело копаться в бумажках, подписывать требования и калькуляции, ругаться по телефону с базами — потянуло на воздух, да, кстати, и аппетит разыгрался. Он и пошел пешочком по морозцу в «Богатырь», прихватив с собой для порядка плановика.
— Скажите ваше слово, Никанор Ильич! — не унимается Караев.
Поддев на вилку пирожок, Полушалкин откусывает сразу половину и, пожевав, с полным ртом неопределенно говорит:
— А расстегаи с рыбой, пожалуй, будут повкуснее.
— Завтра сделаем расстегаи, Никанор Ильич. Приходите завтра!
— Ты, брат, у меня не один. План выполняешь?
— С планом у него — все в порядке! — вмешивается в разговор Кулек, кладя себе на тарелку кусок поросенка. — За прошлый месяц сто три сделал.
Директор «Богатыря» скромно наклоняет голову.
— Стараемся по силе-возможности!.. Никанор Ильич, — стонет он, изнемогая от преданности, — может, что заметили — скажите! В кровь разобьемся, а исправим. Давайте директивы-коррективы!
— Насчет морковки… Вы хотели сказать! — подсказывает Полушалкину Борис Семенович Кулек.
— Да, да!.. Вот что, Караев, — на кухне у тебя, брат, того… замечается расточительство. Люди не берегут продукты. Мы с Борисом Семеновичем обратили внимание: на полу валялась хорошая морковка. По ней ходили, топтали ее ногами. Это как называется — с точки зрения государственного подхода?! Сколько там было морковки, Борис Семенович?
— Корней пять! — подумав, сообщает плановик.
— Вот видишь, Караев! — продолжает развивать свою мысль Полушалкин, строго глядя на удрученного директора «Богатыря». — А сколько весят пять морковок?.. Самое меньшее — триста граммов. Так? Теперь подумай, что такое морковка?
— Гарнир?! — робко, как ученик на экзамене, отвечает Караев.
— Не гарнир, а о-вощ. А что такое овощ?
— Опять же… гарнир!
— Застучал, как дятел: гарнир, гарнир. Ты отвечай с точки зрения государственного подхода. Овощ — это продукт труда. Так? Эту морковку колхозники растили, как мать дитя. Потом сдали государству. Так? Потом государственные машины ее везли по дорогам в дождь, в грязь. Так? Потом она, матушка, в подвалах лежала, и опять за ней люди присматривали, за что и получали соответствующую зарплату. Так? Привезли ее сюда, в твой кафе-ресторан, а ты что с ней делаешь? Топчешь ее ногами, как вот этот поросенок, когда он еще живой был?! Это как называется с точки зрения государственного подхода, а?!
Напуганный этим глубокомыслием, Караев бледнеет и из сизого делается нежноголубым, как увядший василек. Он смущенно бормочет:
— Ей-богу, первый раз сегодня такое дело случилось, Никанор Ильич. И как раз вы пришли. У нас строго насчет этого!..
— Брось! — горячится Полушалкин, охваченный своим порывом. — Я вижу — это у вас система. Сегодня затоптали пять морковок, завтра пять. А в месяц сколько это будет?.. Борис Семенович, оставь поросенка, посчитай. Если каждая наша точка затопчет в день по триста граммов морковки — это, понимаете, какая цифра на весь трест получится?!