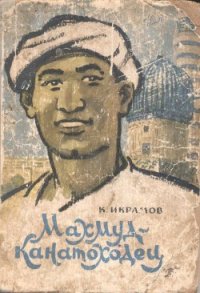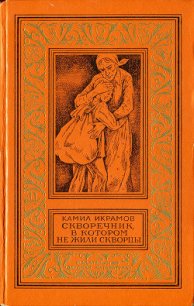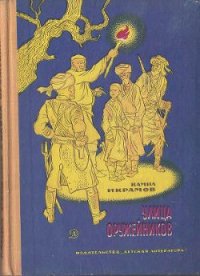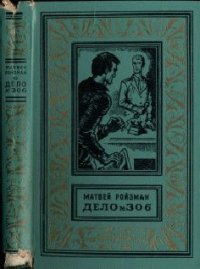Дело моего отца (Роман-хроника) - Икрамов Камил Акмалевич (книги регистрация онлайн txt) 📗
У противоположного окна ехала блондинка, инженер-химик, возвращавшаяся из Чимкента в Мончегорск. Я заигрывал с ней, но блондинка не принимала моих ухаживаний.
Видимо, за время командировки ей надоели случайные ухаживатели. А может быть, я был слишком рассеян и напуган предстоящим приездом в Москву, чтобы быть хорошим кавалером. Мне кажется, что весь я тогда вибрировал, и голос мой дрожал и ломался.
Тринадцать тюрем и лагерей, пересылки, этапы, вагонзаки-столыпинки и телячьи вагоны, конвой с собаками и деревянными молотками — все это не вспоминалось. Нет, я ни о чем не мог думать, а если бы тому, что происходило в моей голове и в моей душе, можно было найти словесное выражение, то оно умещалось в один вопрос: «Неужели?»
Сын врага народа Акмаля Икрамова возвращается в Москву. Сын реабилитирован, хотя про реабилитацию отца и речи не шло. Был тогда анекдот, который, боюсь, кроме меня, никто уже и не помнит.
«Посадили репку. За репку — дедку, за дедку — бабку, за бабку — дочку, за дочку — внучку, за внучку — Жучку, за Жучку — кошку, за кошку — мышку… Так вот мышку на днях реабилитировали».
Я был этой самой мышкой.
Поезд пришел в Москву утром 28 апреля. Чемодан и пальто я оставил у Саши. Я выпил с ним и его женой сладкого вина, получил приглашение (очень важное, очень существенное) переночевать у них, если не найду где, и пошел гулять.
Я шел по Москве, не боясь, что меня остановит милиционер… Я даже хотел, чтобы меня остановил милиционер, и потому всякий раз, когда я его видел, у меня немного замирало сердце.
Это только говорится так: пошел гулять. Я не знал, кто пустит меня к себе, а кто не пустит. Не было уже деда по матери, не было тетки — его падчерицы. Оставалась сестра деда и двое ее взрослых и благополучных детей. Я пришел к ним. Ох, какая поднялась суета, как меня кормили обедом, какой был чай, с каким домашним печеньем! А когда я вышел от них на улицу, то вдруг понял, что они не спросили меня, где я буду жить, где переночую? Не спросили, и все.
Я пошел к семье своего лагерного друга Евгения Александровича Гнедина, бывшего до ареста заведующим отделом печати Наркомата иностранных дел, ближайшим сотрудником М. М. Литвинова. Безуспешно звонил я в их индивидуальный звонок, потом позвонил в общий, и соседка по коммуналке объяснила, что родные Евгения Александровича уехали к нему в ссылку.
Но ничто не казалось мне сложным, ничто не огорчало, даже не заботило.
В апреле я приехал, в мае мне удалось временно прописаться у моей бывшей няни, с первого июня я поступил на работу, а в один из летних вечеров пошел в Историческую библиотеку, чтобы выяснить, кто же все-таки был мой отец Акмаль Икрамов, за что его расстреляли, в чем он признавался на знаменитом процессе в марте 1938 года.
Я никогда не верил, что он шпион, диверсант, убийца, вредитель и буржуазный националист. Но, видимо, что-то было? Иначе зачем же поднимать весь этот сыр-бор? Что-то было, что-то было. Что?
Не шпион, не диверсант, не убийца, не буржуазный националист — этого мало знать об отце.
Среди тысяч коммунистов и старых коммунистов, которых я встречал в лагерях, не было врагов народа. Ни одного. Встречались плохие люди, бывали мерзавцы, фанатики и дураки. Врагов народа не было.
Зато многие из них говорили о том, что «лес рубят — щепки летят». Видимо, подразумевая, что лес — это другие. А мы — щепки. Щепки с подпольным партийным стажем говорили о лесе, который нужно рубить, и почти никогда — не вспомню я ни одного случая — о лесорубе, который по совместительству был и садоводом. Впрочем, одно другому в абстрактном значении ничуть не противоречит. Сколько нужно времени, чтобы заметить очевидность, уйти от абстракций?
Не думаю, чтобы эти люди боялись высказывать свои мысли. Они не думали так, как думают теперь все нормальные люди. Абстракции полностью лишали их возможности видеть то, что было перед глазами. А может быть, очевидность угнетала их, в то время как абстракции утешали. Как медленно протекает процесс общественного осознания? И что такое общественное сознание?
Помню только один, поразивший меня разговор. Старый троцкист — троцкистов за коммунистов никто в лагере не считал — беззубый дистрофик со злыми глазами, вмешался в какой-то разговор о Сталине.
— Сволочь! Он уничтожил нас, опозорил Троцкого, а потом взял нашу же программу. Он все украл у Троцкого.
Старика звали Савченко, он был на грани между жизнью и смертью. Я поверил ему и, до сих пор ничего толком не зная о Троцком и троцкизме, к словам Савченко отношусь с доверием. Симпатии к Троцкому у меня тогда не возникло — даже, скорее, наоборот. Но странно, что благоговения перед Сталиным почему-то тоже не убавилось.
«Лес рубят — щепки летят», — говорили люди. И еще говорили о логике борьбы. Мой отец не был щепкой — это я знал точно. Оставалась логика борьбы.
О борьбе люди любили поговорить. Тоже абстрактно. Сейчас — поразительно, как быстро летит время, — у всех на устах слова известной песенки:
Все улыбаются иронически и мудро. Получается, что песня сочинена вроде бы не теперь, а в тридцать седьмом году. А мне обидно, что мои друзья и наставники в лагере, люди очень образованные, много видавшие на своем веку, прочитавшие тысячи умных книг, которых давным-давно и достать-то нигде уже нельзя, они, эти люди, не могли так мудро иронически улыбаться.
«Лес рубят — щепки летят!» О превращении леса в щепку люди боялись думать.
Однажды меня отправляли из одного лагеря в другой. Это было в сорок восьмом году. Я почти полностью отсидел свои первые пять лет, близился день освобождения, и возле вахты, напутствуя меня, собрались мои друзья.
У каждого из них на свободе были дети, как правило, старше меня; они не видели их лет по восемь — десять и не знали, когда увидят и увидят ли. Они любили меня, верили, хотели верить в мое счастье. В бараках после работы они подсовывали мне книжки: «Диалектику природы» и «Анти-Дюринг», Чернышевского, Белинского, «Историческую поэтику» А. Н. Веселовского. Они специально выписывали эти книжки из дома, после работы проводили для меня семинары, корили за ошибки и уклоны, которые я допускал в своих соображениях по поводу прочитанного. Они стыдили меня за «экономизм», за «вульгарное социологизаторство» и за многое другое, что было так же точно и просто сформулировано. Они очень верили в меня, преувеличивали мои способности, радовались моей элементарной сообразительности и юношескому любопытству. Я заменял им их детей, поэтому они не знали меры ни в похвалах, ни в упреках Как я узнал много позже, один из них, старый педагог, сидевший еще при Николае Втором Кровавом и при Александре Федоровиче Керенском, при каждом поправении правительства Латвии и при диктатуре Ульманиса, за глаза называл меня молодым титаном.
Этим прекрасным и чистым людям верить в меня было необходимо. Я один мог иметь хоть какую-то надежду на будущее, а без веры в лучшее будущее они не могли бы жить.
В то холодное осеннее утро я стоял у вахты в ожидании конвоя, а мои друзья и наставники торопились обнять меня, сказать самое необходимое, самое сердечное.
Ты должен учиться. Ты должен стать образованным человеком. Ты будешь счастлив, но за счастье нужно бороться.
— Помни, что говорил Ленин: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свой мозг всеми знаниями, которые накопило человечество».
Тебе предстоят трудности, но ты должен бороться за будущее, за коммунизм. Важно видеть главное в жизни, не спотыкаться о мелочи.
— Не озлобляйся в борьбе. Помни, ты должен быть настоящим коммунистом, достойным твоего отца.
Так или примерно так говорили мои старшие друзья. Сейчас их слова кажутся мне слишком уж прямолинейными, но других слов не припоминается. Да, да! Они говорили именно это — быть достойным отца, быть ленинцем.