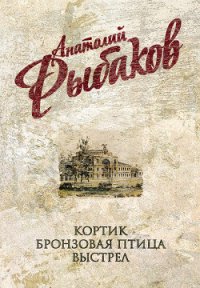Встань и иди - Нагибин Юрий Маркович (бесплатные версии книг .txt) 📗
- Ну вот, новелла завершена,- сказал отец.- Для этого я уцелел.- Он посмотрел на меня со странной улыбкой и добавил: - Ты понимаешь, я сам выбрал это место, сам. Мне никто не приказывал.
Некоторое время мы стоим молча. Впереди, над лесом, в той его стороне, куда ведет дорога, высится мощная, густая крона какого-то дерева. Дуб ли это, или вяз, или старая плакучая береза - отсюда не разобрать. Над ярко-зеленой зубчатой стеной елового леса его щедро облиственная крона выглядит голубой, ее перерезает стежок тумана, испарение недавнего дождя, и кажется, будто крона свободно висит в воздухе.
- Я приеду через месяц,- говорю я отцу,- и мы дойдем с тобой вон до того дерева...
Я быстро шел к станции по твердо утоптанной тропке, тянувшейся вдоль шоссе. Голубое дерево висело над лесом, и впервые мне казалось, что оно совсем недалеко, у самой опушки, затем оно отодвинулось дальше, в глубь леса, а когда я ступил в терпкое благоухание влажного, прогретого солнцем ельника, оно сделало скачок и оказалось за полотном железной дороги. Но вот я подошел к полотну, и голубое дерево скрылось за редким осинником - над тонкими, трепещущими верхушками осин высился его мощный и легкий купол, и я понял, что оно недосягаемо для нас с отцом: голубое дерево счастья.
17. Под небом Рохмы
Да, счастья не было, какое уж там счастье! Но жизнь шла, и были в ней свои просветы, хотя гораздо больше темного, печального и трудного. Правда, следующий мой приезд,- а приехал я ровно через месяц,- принес мне радостное и гордое чувство. На площади имени Заменгофа встретил меня маленький, худой джентльмен, очень прилично одетый, для Рохмы даже слишком щеголевато, с живой улыбкой, бодрыми жестами, но с очень медленной поступью. Отец отъелся, вставил зубы, отчего исчезли ужасные провалы под скулами, нарастил плоть на кости, он не мог только вернуть сорванного сердца. Но и в том, каким он себя воссоздал, сказалась та изумительная живучесть, что так восхищала маму.
Он жил теперь у другой хозяйки, неподалеку от Большой Рохомской мануфактуры, куда устроился работать плановиком. Прежняя его хозяйка не удовлетворилась ранее назначенной, довольно высокой платой за комнату, и отцу пришлось переехать. В дальнейшем он еще не раз вынужден был менять адрес. Как только хозяйки убеждались в платежеспособности отца, у них тотчас же разгорался аппетит. Им легче было потерять выгодного и кроткого жильца, чем жить с мыслью, что они, упаси бог, чего-то недополучили. Это характерно для рохомчан с их кулацким, злобно и душно жадным складом.
Маленькая Рохма с ее двумя текстильными комбинатами могла бы считаться рабочим городом, но рабочих в настоящем смысле там почти не было. Были крошечные землевладельцы, отбывавшие рабочую повинность,- это давало им возможность и право иметь огород, корову, свиней, птицу, пользоваться выпасами вокруг городка и спекулировать помаленьку в близлежа-щем Иванове. Таковы были коренные рохомчане. Кроме них, на Большой мануфактуре и на льнокомбинате работали пришлые люди, кем-то и где-то мобилизованные женщины, нетрезвые, разнузданные и несчастные; были также инвалиды войны, считавшиеся годными для службы в тылу. Этот народ ютился в бараках и к настоящим горожанам не принадлежал. Лицо города создавали квартирные хозяйки отца: тупые, злобные и настолько жадные, что корысть обращалась им же во вред.
Отца не любили там, в Рохме. Ни его безобидность, ни его слабость, ни его ровный, кроткий и веселый характер не могли защитить его от ненависти рохомчан. Они ненавидели отца и за то, что он сидел в лагере, и за то, что он вышел оттуда, и за то, что он не умирает с голода, не ходит босым и голым, за то, что сын у него писатель и сын этот не бросит его в беде. Впрочем, стоило мне раз замедлить присылку денег, как я получил анонимное письмо с угрозой сообщить в Союз писателей, что я не помогаю старику отцу. Неведомый автор письма менее всего руководство-вался желанием сделать отцу добро, он хотел лишь поквитаться со мной за то добро, которое я делал отцу.
Помню, в пору второго моего приезда в Рохму мне довелось побывать у отца на фабрике. Готовился очередной отчет, и отца заставили проработать половину его отгулочного дня. Как некогда в лагере, прошел я следом за отцом к его рабочему столу, знакомясь по дороге с сотрудниками отдела, пожимая чьи-то руки, выслушивая чьи-то имена и называя свое; а затем я следил за работой отца, слушал забытый потреск арифмометра и звонкий щелк счетных костяшек. Все было как в то далекое время, и все было по-иному. Я не поймал ни одной улыбки, ни одного доброго и заинтересованного взгляда, ни разу не уловил в ладони при рукопожатии ответного тепла. Люди глядели хмуро и настороженно, вяло совали потные руки и тут же отдергивали, и единственный вопрос, заданный мне сотрудницей, касался рыночных цен в Москве. И отец работал уж не с прежним блеском. По нескольку раз проверял он свои расчеты, сердился на арифмометр, порой досадливо морщил лоб, видимо теряя какую-то цифру, что-то перечеркивал и начинал сначала. Сузившиеся сосуды плохо орошали мозг горячей, живой кровью.
Впрочем, работал он в одиночестве. Его начальник Шаров дважды надолго оставлял помещение отдела, чтобы разгружать хлопок. Грузчиков не хватало, и к этому делу привлекали сотрудников управления. Но работа была настолько тяжелой и грязной и оплачивалась так мизерно - полкило черного хлеба и несколько ничего не стоящих рублей,- что никто, кроме Шарова, за нее не брался. Шаров, местный старожил и самый зажиточный в городе человек, у него было большое молочное хозяйство с маслобойкой и сыроварней, фруктовый сад и теплицы. Но он не брезговал даже таким грошовым приработком, настолько полно воплощался в нем рохомский тип.
Другая сотрудница отдела все время бегала кормить грудного ребенка, третья, едва показавшись, отпросилась за какой-то надобностью в Иваново, четвертый был нетрезв - он либо дремал, либо шумно, с отчаянным лицом пил воду из графина; наконец, пятый, моложавый и серьезный, сперва долго читал газеты, затем вышел покурить, вернулся, что-то прибрал на своем столе и снова удалился в курилку.