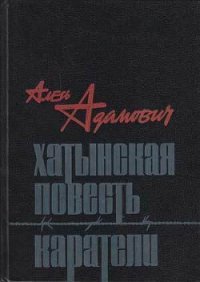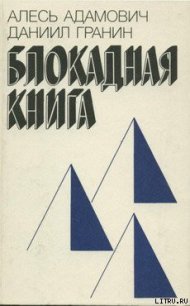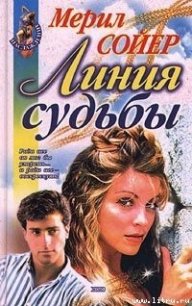Хатынская повесть - Адамович Алесь Михайлович (полная версия книги txt) 📗
– «Народ, избравший самого себя», – так говорил Заратустра!
– Особенно на обращении с пленными это было видно. Сначала холодом и голодом доводили людей до жуткого, почти нечеловеческого облика, затем какой-нибудь добродушный вахман гнал их к ямам расстреливать и вздыхал, может быть: «Нет, что ни говори, а что-то в них, и правда, не от людей!» Думается, весь вопрос в том, повышает ли данная идея способность человека сочувствовать чужой боли, страданию. Или же понижает, притупляет эту самую человеческую из всех способностей – чужую боль ощущать, осознавать как свою собственную и даже сильнее. Если притупляет, тогда это наркотик, ничем не отличающийся от героина, которым во Вьетнаме каратели усыпляли свою совесть. Ну, а техника этому поможет. Вон хотят установить на рисовых полях и лесных тропинках электронные датчики, механических соглядатаев наразбрасывать. Прошло рядом что-то теплое, живое – на инфракрасной пленке далекого аэродрома появился пучок света, тут же взлетели начиненные смертью самолеты. Не только сочувствия, но даже и ненависти уже нет. Пучок света на экране – какие тут могут быть чувства?
– Вот-вот, дорогой Флориан Петрович! Что же получается? Раньше миллионы лет «мы» бродили стадами по холодным плато, расставшись с райскими обезьяньими кущами, каких-то полcта тысяч лет «мы» – существа, так сказать, разумные. Но как только ими стали, разумно разбежались в самые дальние концы планеты, подальше от других, которые для нас уже не «мы». Потом снова обнаружили друг друга, открыли, узнали, обрадовались, а заодно и колонизовали тех, кто послабее и попроще. Аж до атомной энергии homo sapiens поразумнел! И что же? Не по второму ли витку идем? Не тот ли самый разумный рефлекс подталкивает, подначивает нас разбежаться снова, уже по всему Млечному Пути? Вы как хотите, а я за это! Соберемся как-нибудь попозже. А?..
– «Знание мое пессимистично, но надежда, вера оптимистичны» – хорошо все-таки сказал Альберт Швейцер!
… Если я сполз с поля, облитого предательским светом, добрался до своего леса, а днем к «островам», то вела меня и вывела, наверное, все та же нестерпимая детская обида – внутренние слезы, которые я точно нес кому-то. И я принес их к «острову», зная, ожидая, как обрадуются мне, как бросятся навстречу и как я обо всем расскажу. Что будет дальше, потом, я как-то не думал, не заглядывал. А что я им приносил, кроме вести, что все убиты и только я живой? Погибли все, на ком держалась надежда не пропасть с голоду.
На бегу я жевал что попадалось: щавель, ягоды.
В лесу возле первого «острова» все тот же запах, но теперь это знак, что я почти дома. Поискал в кустах – все шесты на месте. Я даже пересчитал, точно не отказался еще от мысли, что Скороход или Рубеж вернулись раньше меня. Я шел к воде, когда меня окликнули:

– Пришли?.. Хлопчики!..
Прислонившись к болотной сосенке, сидит женщина. Ноги вытянуты обессиленно-прямо, на коленях грязный узелок. Глаза пронзительно блестят на истощенном, иссохшем лице. (Как-то услышал я в рассказе бывшего военнопленного: «Целые полгода болел этой смертью» (то есть голодной, умирал от голода. У болеющих голодной смертью глаза всегда такие – вопрошающе-пронзительные.)
– Вот и хорошо… Пришли…
Не хватило воздуха обрадоваться, и женщина глубоко вздохнула. Показала на свой узелок.
– Щавельку собрала… Хорошо, что вы…
Она смотрит, ищет глазами остальных, хочет увидеть, что мы принесли ее детям. Только тут я осознал, что означает для «острова» мое возвращение, какое отчаяние и безнадежность я несу.
– Да, пришли… сейчас… да, – я бормотал что-то, показывая назад, как тогда на лесном кладбище, удаляясь, уходя от женщины, и все не бросал шест. Споткнулся, упал, усмехнулся (вот, мол, упал!), а пронзительно горящие глаза женщины с ужасом цеплялись за меня, удерживали меня, гнали меня.
Я уже почти бежал, бросив шест. Я возвращался. Куда, зачем? Я этого не знал. Знал только, что вот так, ни с чем на «острове» появиться не имею права. Не могу. Перед такими вот глазами, детскими, женскими. И еще – раненые. Больные голодом, голодной смертью все похожи: одинаковые глаза, выпирающий рот. Прошла бы, промелькнула первая надежда, оживленность встречи, и я бы увидел глаза, которые обманул своим появлением.
… Наш автобус совсем затих. Только женский (ровный, нескончаемый) сказ про поездку на юг да как испуганно-весело удирали от карантина, да кто-нибудь произносит название деревни или местности.
– Скоро будет Козловичский лес.
– А потом – Рудня.
– Да, Рудня.
И уже снова общий разговор растекается по автобусу, уже про Переходы.
– Надо было атаковать в деревне.
– Задним умом и я Наполеон!
– Я и тогда говорил.
– Что это? – Голос Сережи. – Это кладбище?
– Это – Рудня.
Автобус притормаживает. Шаркнуло стекло шоферской кабины, молодой голос:
– Смотрите, что тут! А издали деревня как деревня.
– Одни кресты и столбики, папка, – тихо говорит мне Сережа, – вместо домов. И березы.
– Тут всех уничтожили, – пояснили шоферу. – Как в Хатыни.
– И никто-никто не остался? – спросил Сережа почти шепотом. (Как бы самому себе сказал. «Значит, и я не остался бы», – наверное, это он сказал.)
– И во сне не приснится! – громко, молодо промолвил шофер и задвинул стекло.
А мне и глаза закрывать не надо, чтобы приснилось, привиделось. Вижу и так. Болят они, мои глаза, с каждым годом сильнее, точно нестерпимый свет на них постоянно направлен. Не снаружи, изнутри свет – из памяти.
… Я ухожу, убегаю… Подумалось, что меня могут убить, а женщина скажет всем на «острове», что видела меня и что я убежал. Убежал от раненых, от детей! И Глаша там… Все стоит передо мной, все представляю того дядьку. (От него самого слышал в отряде рассказ.) Тоже блокада была, а он жил тогда в гражданском, в семейном лагере. Разогнали каратели жителей по лесу, а он с трехлетней девочкой. От сырых грибов и ягод у девочки началась «кровавка», отец (или дедушка) и решился. Поднялся с нею по лестнице-«ежу», которую нашел возле пустых ульев, сначала опустил ее ноги в широкое и глубокое дупло клена, потом всю затолкал. Девочка заплакала, когда перестала его видеть. А он попросил показать ручки – только грязные пальчики в дупле пошевелились. Он взял ее за руки, подтянул к дупляному окошку: «Ну, вот, ну, видишь? Вот так достану тебя, когда вернусь. Чего тебе принести? Хлебца. Ну, вот, умница!»
Слез на землю, спрятал «ежа», послушал покорное молчание девочки. «Ну, я пошел, я хутенько!» – и побежал. Как я. Чтобы быстрее вернуться. И вдруг, как на стенку, налетел на мысль: «Убьют меня, а она будет там сидеть и день и три, плакать, умирать от жажды, от голода!» Бросился назад. От страха, от волнения заблудился. Стукался о деревья, как слепой, плакал, звал. «Выл, братки мои, как волк, пока не нашел то дерево!»
Убьют, а женщина расскажет, что видела меня и как я убежал. Сбежал!
Деревня, к которой я наконец вышел, спит в прохладном тумане, ползающем по лугу, по огородам клочьями, как овечьи стада. После ночи, которую в голодном полубреду-полусне провалялся под елью, что-то странное бродит во мне. Вот ловлю себя на том, что бормочу, напеваю «Сулико». Почему-то именно эту мелодию. Какая-то неестественная легкость, пустота внутри. И какая-то беззаботная забывчивость. Я направился прямо к деревне и лишь потом спохватился: винтовка на плече! А кто там, в этой деревне, разве я знаю. Совсем целенькая деревня. Крыши, крыши над колыханием тумана, как днища перевернутых лодок. А надо всем, надо мной такое чистое и свежее небо. Справа за туманом темнеет высокая насыпь дороги. Не та ли самая гравийка здесь тянется, возле которой убили ленинградца и Скорохода? На полпути к деревне среди луга поднимается, вырастает из туманной мути, как из воды, несколько молодых берез. К ним я и направляюсь. Ноги путаются в побуревшем от дождей, неубранном сене. Возле берез я остановился, огляделся. Это одна береза, но трехствольная: три изогнутых застывших движения. Очень удобное сиденье для пастушков. О чем это я?.. Ногой сгреб сено и сунул под него винтовку. Не сразу вспомнил, что на мне еще ремень с подсумками и немецким штыком-кинжалом. Я зло рассмеялся. Ну, ну, давай еще «Сулико»!.. Сунул под сено подсумки и штык и тогда сообразил, что китель на мне немецкий. Да и штаны немецкие. Но на штанах грязи столько, что сойдут за неизвестно какие. Спрятал китель под сено и остался в серой рубахе с белыми пуговицами, которую мама мне пошила. Гранату переложил в карман брюк. Ну, кажется, все, можно идти в деревню. Или еще что-то не так? «Долго я бродил и вздыхал…» Ну-ну, спой, дурачок!