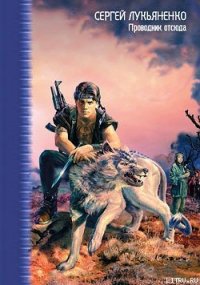Старая скворечня (сборник) - Крутилин Сергей Андреевич (читать книги полные TXT) 📗
— Да ить она в больнице умерла, — отозвалась Курилка. — А оттеля ее в Лужки отвезли. В клубе положили. Там и музыка будет, и речи. Как же!
— A-а, ну тогда понятно! — Тутаев достал из пачки папиросу, помял ее, раздумывая. Врачи запрещали ему курить, и он берегся; помяв папиросу, сунул ее обратно в пачку.
— Значит, с почестями будут хоронить?
— Знамо! — отозвалась Курилка. — Пускай теперича у пас совсем иной колхоз… и земли вон сколько, и машин. Но Аграфену забывать не след. Американка свое дело сделала. При ней нам лучше жилось.
— Получали больше?
— Оно, может, и не получали больше, а душе вольготней было. — Курилка почмокала губами. — Теперича Шустов все сам решает, а Аграфена, бывало, без нас, бабенок, ни шагу! Что мы решим — так и быть по-нашему. А раз решили — то в лепешку разобьемся, а сделаем. А теперича все работают так, от гудка до гудка.
В первые годы коллективизации, когда Аграфена ходила тут в председателях, в Епихине была своя маленькая артель. Земли за колхозом числилось немного, мужичков хватало — с делами управлялись и без машин. Работали епихинцы дружно; жили хорошо. В войну колхоз обеднял. И двух недель не пробыли немцы на Епихинском хуторе, а принесли такое разоренье, что и поныне деревня не может оправиться как следует от ран. Немцы забрали лошадей, сожгли конюшни, фермы, половину изб.
После войны в Епихине остались одни бабы. Хозяйство укрупнили. Теперь все окрестные деревни: Селещево, Романовна, Епихино, Лужки — объединены в один колхоз «Восход». Хозяйство большое, богатое. О председателе ихнем — Шустове — слава на всю область идет. Мужик он ничего, хозяйственный. Такие фермы, склады в Лужниках понастроил, что любо-дорого глядеть! На месте обвалившихся от ветхости колодцев на центральной усадьбе стоят водораздаточные колонки. Теперь Шустов надумал и старые избы изничтожить: гнилушки под соломенными крышами ломать, а на их месте ставить кирпичные дома со всеми удобствами. Хоть помаленьку, хоть по одному дому в год, а центральная усадьба колхоза хорошеет, перестраивается.
«Значит, Аграфену повезли в Лужки, — думал Тутаев. — Да, положат ее для прощания в фойе Дома культуры и потом похоронят с почестями. Это хорошо решил Шустов».
— А что ж, дети-то у Аграфены были? — спросил Семен Семенович.
— Как же, были, — отозвалась Курилка. — Сыновья-то в войну погибли. А дочь — врачиха. На Урале где-то служит. Сказывали — приехала.
— Н-да! — вздохнул Тутаев.
У девчонок были свои заботы.
— Вот этот будет играть жениха, — сказала Ирочка Котова.
— Кто? Какой? — в один голос переспросили двойняшки Тележниковы.
— Вон, который впереди идет.
— В очках-то?! Какой же это жених! — возмутилась Надя Машина; она была постарше своих подруг и, судя по всему, поосведомленнее их. — Дурочки, это режиссер. А жених — молодой, высокий. Вон он — в синих брюках, с полотенцем на плече. — И она указала рукой.
Тутаев поглядел в ту сторону, куда указала девушка, и увидел внизу, на зеленой луговине, молодежь из съемочной группы. Артисты, наверное, ходили купаться или просто знакомились с живописными окрестностями деревни и теперь возвращались домой. Все равно как гуси вечером: растянувшись вдоль всего косогора. Девушки — в ярких халатах, с пестрыми зонтиками; ребята в канарейчатого цвета ковбойках; брюки по-флотски широки и расклешены. И только один, на которого указала Надя, — высокий, русоволосый, в синем тренировочном костюме, выделялся среди них. Издали он походил на спортсмена, вышедшего на разминку.
Посреди косогора, ниже «белого дома», стоял трактор с прицепом. Возле прицепа, груженного лесом, суетились человек пять мужиков; в сторонке виднелась коренастая, угловатая фигура бригадира. Игнат наблюдал за разгрузкой.
— Дом настоящий будут строить для молодых! — рассказывала Надя. — Потом, как поставят дом, свадьбу играть будут. Мамка рассказывала. Ее тоже в артистки записали.
— А кровать какую для молодых привезли! Видели? — восторженно сообщила Ира. — Буду замуж выходить — куплю себе такую же.
— Жених — знаменитый актер! — сказала Надя. — Знаете, в каком фильме он снимался? Вот где про тракториста. Позабыла, как названье…
— A-а, помню, помню! — радостно воскликнула Ирочка.
И девочки принялись обсуждать — хорошо он играл или плохо.
Тутаев слушал эту девичью болтовню, но мысли его были далеко. «Раз возят лес, — думал он, — значит, люди не зря говорят. На самом деле киношники собираются ставить дом. Ну поставят избу. Снимут свадьбу. Ясно же, что они не повезут избу с собой в Москву! Откупить бы eel Купить сруб; выпросить у Шустова пустующий участок и поставить себе дом. И была бы у меня на старости лет дача. Да еще в таком прекрасном месте!»
Едва подумал об этом Тутаев — и уже не мог совладать с собой. Ему не терпелось поподробнее расспросить Игната Тележникова о доме: сколько в нем будет комнат, кто из ребят нанялся рубить сруб, за какую цену можно будет купить его…
Тутаев свернул за угол мазанки и торопливо зашагал под гору, к реке.
7
И пока он шел, картины — одна другой заманчивее — рисовались в его воображении.
…Он поставит свой дом на околице деревни, у самого леса. И будет жить тут с ранней весны и до глубокой осени. Человечество гибнет оттого, что все большее число людей всю жизнь занимается исключительно умственным трудом. Он же будет сочетать физический труд с умственным. По утрам вместо гимнастики он будет копаться в саду: подрезать кусты черной смородины, окучивать яблони, а вечерами, вместо того чтобы, как теперь, выслушивать жалобы тети Поли, он сядет возле камина в кресло и будет читать любимые книги.
Всю жизнь ему не везло: он писал стихи, их не печатали; он мечтал обессмертить свое имя, открыв несметное месторождение золота, но так и не открыл…
И вот только на старости лет ему повезло: у него будет своя дача!
Человека, родившегося в деревне, с годами все сильнее влечет к земле, к природе. С годами воспоминания о детстве преследуют все чаще и чаще, и все в тех днях кажется удивительно дорогим и неповторимым.
И теперь, идя лугом, Тутаеву неожиданно вспомнилось, как однажды ранней осенью дед взял его с собой на мельницу. Взял не случайно: дед с малых лет приучал внуков к любимому им крестьянскому делу. Это теперь хоть те же епихинские мальчишки не видят того, что растит их отец. А раньше ребята были свидетелями всего: дед брал их в поле, когда пахал, сеял, косил хлеб. Снопы свозили на гумно и молотили цепами.
Мешки с зерном грузили на телегу и везли на мельницу молоть. Бабка пекла из муки хлебы. Весь день в избе стоял дух кислого теста. За обедом дед, оперев о живот каравай, разрезал его пополам; затем половинку разрезал на куски, и все протягивали руки и брали по куску, откусывали, пробуя первый каравай из свежей муки.
«У Большого колодца росла», — скажет, бывало, дед.
Теперь же колхозник только сеет и убирает. Убранное зерно увозят на машинах в город: там мелют, пекут из муки булки, и оттуда, из города, из тех же Полян, что в двух километрах от Епихина, привозят в фургоне городской хлеб.
«Конечно, все это хорошо: промышленная переработка зерна, освобождение женщин от хлопот у печи, — рассуждал сам с собой Тутаев, — но вместе с этим что-то нами утрачено».
Но что утрачено — он сказать сразу не мог и, вспоминая о поездке с дедом на мельницу, хотел дать себе ясный отчет.
Ближайшая мельница была на Дону, в Орловке. Кобылка у деда старая, и эти тридцать верст, что отделяли их село от Дона, ехали весь день. На мельнице было завозно: лишь к вечеру второго дня подошла их очередь.
Обратно ехали ночью. Сеня — ему шел тогда восьмой год — лежал на телеге поверх пахучего сена, которым дед прикрыл мешки с мукой, и смотрел на небо. Светила луна; поскрипывали колеса телеги; фыркала лошадь. Было тихо и торжественно, как бывает лишь в степи осенью, когда хлеба убраны, луга скошены и темные стога разбросаны вдоль всей равнины.