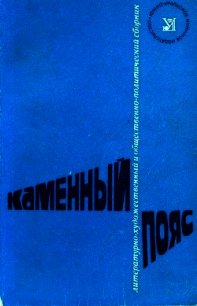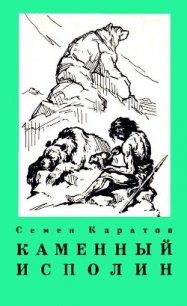Каменный Пояс, 1982 - Рузавина Валентина Васильевна (читать онлайн полную книгу txt) 📗
— Да что ж это, мам?.. За кого ты нас принимаешь?! — Любаша растерянно опустила руки. — Боже мой! Родным детям — плата за внимание. А если я заболею и ты мне в беде поможешь… То тогда как? Мне тоже деньгами?
Евдокия Никитична взглянула в изменившееся вдруг лицо снохи и даже испугалась этой перемены: Любашу будто не одарили, а обругали ни за что.
Любаша шагнула к двери соседней комнаты и позвала Алексея.
— Вот послушай мамины речи. Сто тридцатью рублями нашу заботу оценила. За лечение, так сказать, уплатила… Да я с чужих никогда ни копейки не, брала, когда случалось помочь! — сказав, почти выкрикнув эти слова, Любаша размашисто вложила конверт с деньгами в виновато дрожащие руки Евдокии Никитичны…
— Я что-то не пойму… Какие деньги? — хмурясь, спросил Алексей, но вскоре все понял и, растерянно почесывая подбородок, добавил стесненно:
— Мам, зачем обижаешь нас?.. Может, мы недостаточно внимательны к тебе?
— Что ты, Алеша? — испуганно изумилась Евдокия Никитична. — Поклон до земли вам с Любашей… Однако не побрезгуйте. Примите. Сколь смогла…
— Мам, да что с тобой такое? Сын я тебе или кто?
— Возьмите мое благодарение, не то буду плакать, — твердила Евдокия Никитична, и губы ее дрожали от волнения.
— Вот, вот, опять давление сейчас подскочит, и начинай все сначала, — со вздохом сказала Любаша и шагнула к свекрови: — Ты приляг, мам. Отдохни, успокойся. А награду нам вручишь потом, как совсем поправишься.
— Нет. Примите сейчас, и я утешусь, — взмолилась Евдокия Никитична, удивляя детей и себя неучтивой настырностью. Ее взволновала, обескуражила та непонятная настойчивость, с какой дети отказывались принять деньги. Ее напугало и горько удивило это: родные люди упрямо не понимали друг друга, она — их, они — ее. Отчего это вдруг дети устыдились доброй материнской услуги? Ведь она привыкла отдавать, а не брать. Всю жизнь норовила чем только можно подсобить каждому… И никто не тяготился, не совестился принимать из ее материнских рук любые дары. Будь то носовой платок или деньги… Испокон веков так было и так будет: родители детям помогают. Послушать, некоторые папы и мамы тыщи не жалеют для деток своих — машины, ковры, мебель красивую достают им, покупают…
Стала Евдокия Никитична путано все это говорить, но Алексей учтиво окоротил ее:
— Помогают, мам, слабым. А мы не нуждаемся…
— Да разве в нужде дело… Хоть я и сама не пойму, как тут быть. Только не желала я вас обидеть. Неуклюже получается… У Геннадия и Татьяны я хоть детишек нянчила. А вам ничем не помогла. Вы всегда в отдалении от меня жили. А в беде ближе всех оказались. Но поправлюсь вот, уйду и опять друг от дружки вдали будем. Ничем ответно не смогу уважить.
— А ты не спеши уходить. Поживи у нас…
— Пошто обузу-то для вас продлять. Нет. Вы и без того поусердствовали. И не побрезгуйте, возьмите мой гостинец!.. — вдруг с таким безутешным отчаянием потребовала Евдокия Никитична, что Алексей и Любаша, испуганно переглянувшись, торопливо протянули к ней руки.
— Спасибо, мам, — шепнула Любаша, прикрыла одеялом устало откинувшуюся на подушку Евдокию Никитичну и вслед за мужем вышла из комнаты.
На кухне, притворив дверь, они сели за стол и долго смотрели на выскользнувшие из конверта красные десятирублевки. Деньги Любаша положила на середину стола, подальше отодвинула их, словно напрочь отстранив от себя право ими пользоваться. Оцепенело сидели, не глядя друг на друга, и угнетенно молчали.
— Надо компресс маме ставить, а я… не могу… теперь, как прежде, подойти к ней, — заговорила наконец и вдруг беззвучно заплакала Любаша. — Все хорошо было, от души. Я так старалась… А теперь меня вроде бы купили.
— Перестань! — шепотом крикнул Дюгаев и с тоскливой растерянностью в глазах отвернулся к окну.
— Нет, ты скажи, что я делала не так? — продолжала по-детски всхлипывать Любаша.
— Ладно, не заводись, — помолчав, утешающе сказал Дюгаев и повернулся лицом к жене. — Это по простоте душевной мама могла так не этично… И понять ее можно. Но… вот скажи: почему так взвинтили нас, оскорбили эти деньги ее, почему мы шарахнулись от этой неумелой, наивной, но доброй же по сути услуги матери?
— Да какая это услуга?!.. Ты слышал, как она сказала: «Возьмите — за уход». Понимаешь? За уход!
— Погоди, не горячись… Я все же не пойму, почему мы так заторопились оскорбиться, будто нам взятку сунули?..
Евдокия Никитична тем часом размышляла примерно о том же: как и Алексей, она не могла уразуметь, отчего так всполошились, вздыбились дети, когда она деньги им подала. Любаша до обидчивого крика свой голос взвила: я, дескать, от чужих подачек не беру, а тут родная свекровь рубли поднесла. Оттого-то, может, и не надо на крик материнскую затею поднимать, что это не чужих, а своих рук дело. И если мы взаправду не чужие, а свои, родные люди, то зачем бы вам с матерью так высоко объясняться, будто на сцене?.. Опять же что содеяно зазорного, нечестного? Как ни рассуди — дела обоюдно добрые: дети матери заботу оказали, а она, мать-то, разве останется неблагодарной? Да она впятеро уважит их за это!.. Только вот не сумела угодливый подход найти. Может, не деньгами бы надо, а чем другим ублажить… Конечно, промашку дала она, подвох какой-то из-за нее случился, сплоховала она в чем-то. Но она хотела как лучше…
Компресс Евдокии Никитичне Любаша поставила в срок, сунула под ноги грелку, старательно укутала одеялом. Однако уже не балагурила ласково и весело, как прежде. Два-три словца обронила и отошла. И Евдокии Никитичне сразу стало так плохо и одиноко на сердце, что она вдруг перестала ощущать свое выздоравливающее тело, вместо тела была пустота, провал какой-то, и грелка уже не усыпляла ее привычно нежным теплом, а лишь откуда-то издалека, как сквозь сон, зло и ненужно жгла ей ступни.
В прихожей трынкнул звонок, послышался знакомый голос соседки по этажу. Стоящий в кухне Дюгаев вздрогнул от этого звонка и, сам не сознавая для чего, сгреб со стола деньги и торопливо сунул их в карман. Потом закурил сигарету и, стоя одеревенело на одном месте, жадно высосал ее в три-четыре минуты. Когда Любаша, выпроводив соседку, заглянула в кухню, он устало попросил:
— Давай погуляем. Голова трещит…
— Идем. Заодно Юрочку со двора позовем. Совсем заигрался, про уроки забыл, — в словоохотливом согласии жены Дюгаев уловил встречное желание скорее куда-нибудь выйти из тесной, отчего-то вдруг уменьшившейся квартиры.
Вечерняя морозная мгла была всюду изрешечена оранжевыми квадратиками живущих окон. Во дворе на ледяной горке барахталась, щебетала детвора. Любаша по голосу нашла сынишку и, дав ему порезвиться еще с полчаса, вернулась к мужу. Постояли немного и, ища безлюдья, как неприкаянные, молча зашагали в тихий тупичок.
— Вечер-то какой! — тихо ахнула Любаша и тут же смолкла: слова прозвучали как бы издалека, будто сказал их другой человек, который взаправду любовался красотой зимнего вечера.
— Да, — бездумно подтвердил Дюгаев, и было как-то пустынно в его голосе. Вяло шагал, уткнув нос в поднятый воротник.
— Так как же быть? Как? — вдруг резко остановился он на углу.
— Поменьше самоедства, — твердо посоветовала Любаша. — Все коришь себя, что мать редко наведывал. Зато Геннадий и Татьяна чаще у ней бывали. А толку? Как ты ни был занят в сравнении с ними, а не проглядел материнскую беду… Можно часто встречаться, любезности говорить, по по-настоящему все проверяется в трудных, в таких вот… экстремальных ситуациях.
— Вот, вот… Возможно, мама потому и стесняется нас, как чужих, что перед ее очи мы являемся лишь в этих самых экстремальных случаях… А будь у нас нормальные отношения с мамой, то ее… деньги не обожгли бы нам руки, любой ее презент мы приняли бы с улыбкой и шуткой. Не кинулись бы честность свою ей доказывать. Она и так знает, что мы хорошие, верит в это. Но мы за себя испугались: что о нас люди скажут?! В данном случае — мама. И как перед чужим человеком стали перед ней позировать. Поскольку отвыкли, отдалились, а сознаться в этом совестно…