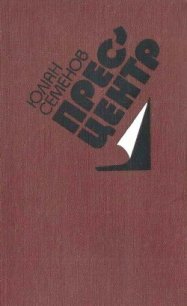...При исполнении служебных обязанностей. Каприччиозо по-сицилийски (Романы) - Семенов Юлиан Семенович (лучшие книги онлайн TXT) 📗
Аветисян то и дело поднимался со своего места и, приставляя карманное зеркальце к астрокомпасу, проверял правильность курса. Струмилин не ждал, что скажет Аветисян: они понимали друг друга не то что с полуслова, а просто-напросто «со спины».
Струмилин слышал, как Аветисян поднимался со своего места; он слышал, как Аветисян поднимался на цыпочки, поднося зеркальце к астрокомпасу, и как раз в тот момент, когда Аветисян, перепроверив курс, нагибался к нему, чтобы сказать, какую надо внести коррективу, Струмилин уже поворачивал рычажок в нужном направлении.
Брок сидел в своем закутке и разговаривал с миром. Его «почерк» был известен всей Арктике. Как только Брок входил в эфир, все радисты знали, что это «говорит» именно он. Брок сердился, если его «переспрашивали». Он почти никогда не отвечал, если его переспрашивали, потому что считал лентяйством не понять сразу переданное в эфир. «А вдруг второй раз передать нельзя?» — всегда говорил он, если при встрече его ругали те, кто не понял его сразу.
Володя Пьянков ушел из кабины и, устроившись на запасном бензобаке, спал. Он ворочался во сне и все время причмокивал. Проходя мимо него, Струмилин укрыл его курткой и поправил под головой унты, служившие сейчас подушкой.
Вернувшись в кабину, Струмилин устроился на своем месте и снова посмотрел на Богачева. Он теперь часто разглядывал его. Он видел, что с парнем произошло что-то значительное, такое, что запоминается на всю жизнь. Богачев вернулся из Москвы совсем иным: подсохшим и повзрослевшим. Спросить его Струмилин ни о чем не решался. Иногда ему казалось, что Павел только и ждет его вопроса. Но он все равно не решался ни о чем спрашивать.
«Это будет глупо, — думал он, — буду интересоваться, как добрый дяденька. Он ездил к Жеке, это ясно. Либо он сейчас счастлив и поэтому весь такой обуглившийся, или ему очень плохо. Так плохо, как быть может плохо мужчине только раз в жизни. Но даже если ему плохо, я все равно ничем не могу помочь парню — я слишком хорошо знаю Жеку. И, наверное, это самое хорошее, что есть в нашем веке: отец не может приказывать дочери. Мы, наверное, даже и не понимаем, как это гуманно. „Стерпится — слюбится“ — боже ты мой, какое же это скотство! Так говорили отцы детям, когда вынуждали их выходить замуж. „Стерпится — слюбится“ — наверное, отсюда рождались дети-уроды…»
— Черт, — сказал Павел, обернувшись к Струмилину, — что же так долго?
Струмилин засмеялся:
— Скоро приедем.
— Через час, — подсказал из-за спины Аветисян. — Мужайся еще один час, а потом ты станешь настоящим полярником.
— Нёма, — спросил Струмилин, — скоро будут последние известия?
— Сейчас я найду.
Струмилин надел мягкие наушники и закурил. Он слушал эфир: тысячи голосов, тревожные поиски морзянки, обрывки музыки, злые голоса диспетчеров — все это билось в ушах, и от этого у Струмилина почему-то сильно болели мочки. Не перепонки и не голова, а именно мочки ушей болели острой и противной болью.
— Послушайте, хорошая музыка, — предложил Брок, — до последних известий еще шесть минут.
Далеко-далеко впереди, среди торосов, казавшихся в лучах солнца красными, Богачев увидел крохотные черные точки. Это были маленькие полярные домики-балки и палатки станции «Северный полюс-8». Самолет пошел на снижение, балки перестали казаться крохотными, и стало видно, что все палатки жгуче-черного цвета. Посредине ледяного поселка ярким пятном выделялся красный стяг. К ледяному аэродрому бежали зимовщики. Они бежали очень быстро, и Богачев видел, как они обгоняли маленький трактор, тащивший прицеп, на который надо было разгружать самолет.
Все было обыкновенно: и балки, и палатки, и люди, бежавшие к самолету, и торосы, окружавшие ледовый лагерь, но Богачев видел все именно так, как он хотел видеть. Ведь мимо Сикстинской мадонны можно пройти так же, как проходят мимо репродукций с лакированных, улыбающихся и ничего не выражающих портретов. Надо уметь видеть и хотеть видеть, тогда увидится.
Богачев почувствовал, что он вот-вот расплачется. Он смотрел на людей, бежавших к самолету, и вспоминал отца, и видел Женю, и то раннее утро, когда она отвезла его на аэродром, и еще многое вспоминал он — то хорошее, что наваливается одним виденьем, большим и неясным, но изумительно радостным.
Когда они вышли из самолета и поздоровались с зимовщиками, Струмилин сказал:
— Чувствуешь, какой разреженный здесь воздух?
Павел ответил:
— Я чувствую, что здесь прекрасный воздух.
— Правильно. Только он очень разреженный. Но это ерунда. Ты сейчас этого не почувствуешь. Ты это почувствуешь позже, через двадцать пять лет и семь месяцев.
Богачев засмеялся. Струмилин подтолкнул его и сказал:
— Пойдем в балок к начальнику станции. Я вас познакомлю. Он прекрасный парень, молодой, вроде тебя. И доктор здесь тоже совсем молодой. Тут весь состав зимовки комсомольский. Пошли.
Жизнь на Северном полюсе шла своим чередом: океанологи запускали свои приборы в воду, синоптики выпускали зонды, на кухне готовился обед; монотонно и спокойно трудился мотор, дающий электричество, лаяли псы — старожилы зимовки, проведшие здесь два года.
— Как на суше, — сказал Павел.
— Здесь три километра глубина, — усмехнулся Струмилин.
Богачев вдруг остановился и снял ушанку. Он стоял нахмурившись, молча и торжественно. Струмилин пошел потихоньку: он понял парня и решил уйти вперед.
«Я на Северном полюсе», — думал Богачев. Все в нем ликовало радостью огромного свершения.
Он засмеялся и надел шапку.
«Сбылись мечты идиота. Кажется, это из Ильфа и Петрова. Черт, я на полюсе! Если бы отец… — Павел одернул себя. — Пожалуй, не надо мне думать о том, что я на полюсе. В конце концов это не моя заслуга. Это то же, что сейчас туристу съездить в Берлин. Он может съездить в Берлин сейчас, потому что многие не вернулись оттуда в сорок пятом, в апреле и в мае…»
Небо над Павлом было поразительно и прозрачно. Такое небо бывает в Подмосковье после первого грибного дождя в самом начале мая, когда все вдруг станет до того чистым и светлым, что и на душе становится как-то по-особому радостно и только тогда понимаешь — вот она, весна! Пришла, с ливнем, с грозой, которая очищает все окрест, пришла с теплом и с цветеньем, с тишиной вечеров и несказанной яростью рассветов, когда мир безмолвствует, а птицы возвещают солнце…
«Надо пойти и послать Жене радиограмму с полюса, — решил Павел. — Это будет ей приятно. Я напишу ей, что здесь все как в Москве, только почему-то нет трамваев».
Богачев быстро пошел к тому балку, в который только что зашел Струмилин. Он приоткрыл дверь и громко сказал:
— Здравствуйте, товарищи!
Струмилин приложил палец к губам и попросил:
— Тише…
Богачев сразу же приподнялся на цыпочки: ему показалось, что он разбудил кого-то.
— Простите, — сказал он шепотом.
— Ничего, — ответил человек, сидевший у стола, — говорите нормально. «Наука-9» передает «SOS».
Струмилин, начальник станции и парторг собрались в балке у радиста. В эфире царило молчание. Радист сидел, согнувшись, прижимая левой рукой наушник, а правую руку держал на ключе, готовый в любую минуту передать команду, которой все ждали. Две минуты назад радист передал «SOS» с «Науки-9» на Диксон Годенко. Секундная стрелка на больших струмилинских часах ползла рывками, словно цепляясь за невидимые преграды, расставленные на каждом делении. Прошло несколько долгих секунд — они казались минутами. Прошла минута — она казалась часом.
— Есть! — сказал радист и, бросив ключ, начал записывать на бланке текст, переданный из Диксона:
«Экипажу Струмилина немедленно выйти на помощь „Науке-9“. Вылетаю к вам. Годенко».
Струмилин достал из кармана пачку папирос, осторожно открыл их ногтем, закурил и, потушив спичку, сказал радисту:
— Запросите «Науку-9», какая у них осталась посадочная полоса. Сможем ли мы сесть на нашем «ЛИ-2»?