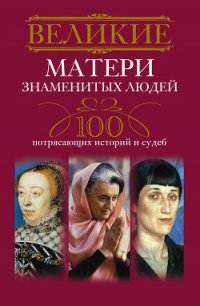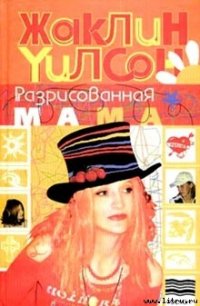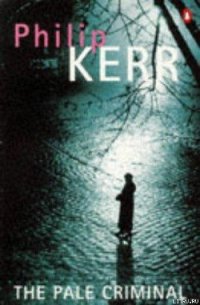Великие голодранцы (Повесть) - Наседкин Филипп Иванович (книга бесплатный формат txt) 📗
Не раздумывая больше, я пустил косу за межу. И тотчас услышал позади тревожный голос отчима:
— Эй, остановись! Чужая!..
Но я не послушался. Это была не чужая, а наша рожь. На нашей земле выращенная, нашим трудом выхоженная.
«Наша! — повторял я про себя, чувствуя волнение. — Только наша. И ничья больше. И мы не отдадим ее. Ни за что не отдадим!»
А как поступит отчим, когда дойдет до межи? Последует за мной или повернет обратно? А если повернет, что тогда? Сдаться? Ну, нет. Не затем я переступил эту черту, чтобы отступать. Тогда пусть он косит нашу половину, а я лапонинскую, которая тоже была нашей. И Нюрка не перестанет вязать за мной. Вон как запросто она перешла на эту сторону, даже не остановилась. Будто мы с ней заранее условились.
Направляя оселком косу, я оглянулся. Отчим только что приблизился к меже. На минуту опустил крюк, задумался. Лицо показалось суровым, взгляд добрых глаз — тяжелым. И казалось, вот сейчас он вскинет крюк на плечо и зашагает назад. Но он не зашагал назад, а взмахнул косой и врезался в рожь за межой. Душа моя наполнилась ликованием. И коса запела еще звонче, укладывая скошенную рожь в ряд.
Мы работали без отдыха. Останавливались только затем, чтобы подточить косы. Да, возвращаясь на новый заход, на миг припадали к прохладному жбану.
Отчим по-прежнему косил за мной. Он свободно мог обогнать меня, но не делал этого. Видно, не хотел ущемлять мою гордость.
Молча трудились мать и Нюрка. Наша решимость радовала и пугала их. Нюрка ни на минуту не разгибалась и вязала с небывалым упорством. Зато мать часто прикладывала ладонь к глазам, вглядывалась туда, где лежал косой шлях. Она ждала и мучилась ожиданием.
Веселым выглядел только Денис. Увидев, что мы прокосили десятину насквозь, он подбежал ко мне, когда я возвращался обратно, и возбужденным полушепотом спросил:
— И лапонинскую пристебнули? Да?
— Не лапонинскую, а свою! — строго сказал я. — И знай себе работай. Да не отставай…
И Денис не отставал. Он хватал снопы за перевясла и, скользя босыми ногами по колкому жнивью, чуть ли не бегом тащил к месту копнения. Лишь изредка приседал он на корточки, будто затем, чтобы рассмотреть что-то, а на самом деле, чтобы съесть жиримолчик. Несмотря на запрет сестры, он все же сумел запастись коржиками.
А солнце поднималось все выше и выше. Не скупясь, оно заливало поле зноем. Спелая рожь сверкала золотом и, как диковинное море, волновалась. То там, то сям плыли по этому морю косари, поблескивая в солнечных лучах мокрыми от пота спинами. А вязальщицы в белых платочках, будто забавляясь, то погружались в золотистую зыбь, то вновь всплывали над ней.
На зеленой дорожке, разделявшей загоны, время от времени показывались односельчане. Чаще всего это были старики и старухи. Они несли хлеборобам нехитрую еду или тащили грудных внучат к матерям. Некоторые останавливались перед нашим полем и с удивлением оглядывались. А сосед Иван Иванович даже свернул на делянку и, приминая деревянными башмаками стерню, двинулся к нам.
— Это что ж такое-ча? — закричал он на подходе. — Никак ты, Данилыч, урожай выкупил?
— Выкупил, — нехотя отозвался отчим, не переставая косить. — Силушкой да правдушкой.
Иван Иванович недоверчиво оглядел нас слезящимися глазами.
— И какая же вышла цена? — спросил он, не поняв отчима. — Какой куш с пятерых душ?
— О цене покамест не столковались, — морщась, отвечал отчим. — Некогда этим заниматься. Убирать поскорейше надо. Не то перестоится и посыплется. Урон большой выйдет…
Я досадовал на старика. И принесла же нелегкая! Теперь растрезвонит всему миру. И раньше времени встревожит Лапониных. Чего доброго, примчатся в поле. А лучше бы столкнуться с ними в селе. Там народ не так разбросан, как в степи. И что, как явятся все трое? Более всего страшил Дема. От него можно ждать любой выходки. Да и Миня не станет раздумывать. С отцом и старшим братом он любит показать храбрость.
— Знаете что, дед? — прервал я говорливого старика. — Шли бы вы своей дорогой. И не мешали бы. Время-то жаркое…
Иван Иванович оторопело глянул на меня. Потом перевел испуганный взгляд на отчима.
— Все понятно, едят ё мухи! — закивал он седой головой. — Самочинно, значитца. На страх и риск. Ну, дай бог. И сохрани, дева Мария. Другим для примера. Чтоб не ждали милости…
Разговор с Иваном Ивановичем вселил тревогу. Я косил с удвоенной силой. Молча трудились мать с Нюркой. Даже отчим и тот как-то присмирел. Всеми овладело беспокойство. Да и то сказать! С кем решились схватиться…
За обедом мать глухо сказала:
— Вот косим, вяжем, спину гнем, а он подъедет, Лапонин, на своих битюгах и увезет готовое.
— Так уж и увезет! — вспыхнула Нюрка. — А мы что, смотреть будем?
— А что ты ему сделаешь? — продолжала мать. — Пожалует с сыновьями. Да еще не с пустыми руками. И пропадет наш хлебушко. А мало того, самих покалечат…
Я украдкой взглянул на отчима. Он был строгим и мрачным: видно, взвешивал наши силы. И обдумывал меры защиты.
Словно почувствовав мой взгляд, он оглядел нас и принужденно улыбнулся.
— Не падать духом, — сказал он. — Не такие уж они грозные. Да и пора уже не та. Кончается их пора…
Да, пора не та. Аппетит богачей урезан. Чтобы выколачивать барыши, им приходится хитрить и приноравливаться. И все же… Они держали в кабале многих. Перед ними склонялись слабые. Их поддерживали подкупленные и задобренные. И со всем этим нельзя было не считаться.
Лапонин явился под вечер. Прискакал верхом на жеребце один.
Остановившись перед нами и не слезая с коня, спросил отчима:
— Ты что же это делаешь, Данилыч?
Отчим вытер мокрый лоб тыльной стороной ладони.
— А ты что ж, не видишь?
— Вижу, — ответил Лапонин, силясь сдержать гнев. — Потому и спрашиваю. В чем дело?
— А в том дело, — сказал отчим, — что порешили мы сами убрать свой урожай.
— Вы же сдали мне землю?
— Сдали, — подтвердил отчим. — Прошлой осенью. А теперь вон лето. И мы передумали.
— А как же сделка?
— Сделка кабальная, — вмешался я. — И мы расторгаем ее. Раз и навсегда. За лошадей, понятно, заплатим. Что положено…
Лапонин повернул жеребца ко мне. Казалось, вот сейчас он ударит его, и тот собьет меня, растопчет. Я невольно поднял крюк, поставил его перед собой косой вперед. Лапонин опустил плеть.
— А ты того, малый, — прохрипел он. — Не больно задирайся. Невелика шишка — секретарь комсомола. Враз урезоним. Тем паче в таком деле. Это ж разбой средь бела дня!
Отчим шагнул ко мне и тоже поставил косу перед собой.
— Никакого разбоя нет, — возразил я, ободренный поддержкой отчима. — Скорей наоборот: защита от разбоя. И ничего больше. А что до меня самого, так я не задираюсь. И шишек из себя не строю. Вот так, гражданин Лапонин. Урезонить же нас не удастся. Скорей мы урезоним вас. Да так, что никогда уж не сможете наживаться чужим трудом…
Я старательно подбирал слова, четко произносил их и видел, как менялось заросшее щетиной лицо богатея. Оно то бледнело, то перекрашивалось в зеленый цвет, то покрывалось коричневыми пятнами. И впервые мне стало ясно, что иные слова могут бить больнее кнута.
— Хорошо!.. — Лапонин задыхался от ярости. — Можете убирать. А я предупреждаю. Как уберете, так увезу хлеб. И за работу не дам ни копейки.
— Хорошо, — в тон ему сказал я. — Везите. А мы заберем его с вашего тока и через все село повезем на ваших лошадях…
Лапонин хотел было что-то ответить, но запнулся, точно подавившись злобой, и повернулся к отчиму.
— Смотри, Данилыч. Пожалеешь, да поздно будет. Со мной шутки плохи. Ни перед чем не остановлюсь…
И со всей силой ударил жеребца плетью. Тот испуганно вздыбился и вихрем помчался по полю. Но Лапонин продолжал в исступлении хлестать лошадь. Упругая плеть в его руке без конца поднималась и опускалась. И в воздухе чудился свист ременной подушечки, в которую вправлен свинец.