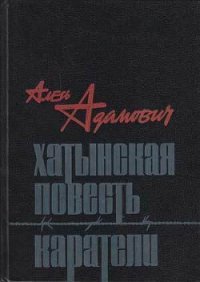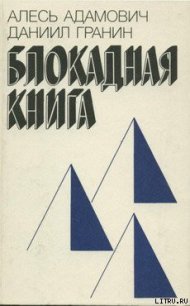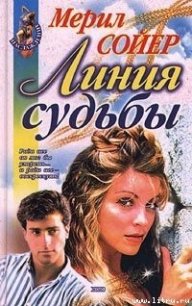Хатынская повесть - Адамович Алесь Михайлович (полная версия книги txt) 📗
Я готов уже разбудить Рубежа, не хочу видеть этой его позы, боюсь ее, как самого последнего одиночества в мире.
По дороге снова идут машины, а когда возле окопа остановился танк, я толкнул Рубежа. И удивительно, как я обрадовался, когда увидел живое лицо, заросшее светлой щетиной, носатое лицо Рубежа.
– Давно они? Что же не разбудил?
Шепчет громко и так, точно, проснись он раньше, чего-то не допустил бы. Человек всегда просыпается в мире немножко ином, чем тот, который оставил засыпая. В доброе время – с радостной готовностью догнать отдалившееся. В плохое – с беспокойством человека, не знающего, куда переместилась опасность.
– Как это я заснул?
Смотрит на дорогу, на убитых, просыпаясь окончательно.
– Что ж, братка, делать, если и нас забьют? Скажут там: сбежали!
Да, «остров», Глаша…
– Совсем им плохо будет, – прикидывает Рубеж.
Там нас ждут, там само время отмеряется: в прошлое – нашим уходом, в будущее – нашим возвращением. А ведь это единственное на земле место, где нас, где меня ждут, и как это, оказывается, необходимо, чтобы человека ждал кто-то. Раньше, давно-давно, когда живы были мама, сестрички, я об этом не думал, как может подолгу не думать человек о солнце: оно всегда есть и будет, пусть даже оно и забыто за тучами.
Теперь только Глаша, «остров» о тебе помнят, нуждаются в тебе, именно в тебе.
… Когда ракета падает, земля как бы приподнимается ей навстречу. И все, что можно видеть в падающем свете ракеты, будто на цыпочки встает: зачем-то посмотреть, куда упала. И ты тоже отрываешь от земли, поднимаешь голову, тянешься туда.
Вчера мы с Рубежом долго уползали от таких же ракет, от проклятой гравийки, где потеряли ленинградца и Скорохода, где оставили убитых незнакомых крестьян. Сначала в жито перебрались, ползли по измятому беглецами, овчарками, немцами житу, а потом поднялись и пошли. И когда встали на свявшие от долгого лежания ноги, мир сразу раздвинулся, мы уходили через поле к лесу, подпираемые своими короткими тенями, и они радостно, преданно подтверждали, что мы есть, существуем…
Но прошло два дня, и ракеты снова прижимают нас к земле, только сейчас мы не уходим от них, мы ползем им навстречу. Ничто ведь не изменилось, и нам необходимо добыть хотя бы чего-нибудь, с чем можно возвратиться на голодный «остров». Ничего стоящего мы еще не встретили. Правда, видели в лесу корову, но взять ее не смогли. Что мы найдем в деревне, куда ползем, неизвестно. Но что-то надобно делать, хотя бы вот так ползти к полицейскому гарнизону по неубранному картофельному полю.
– Ну как после теткиного молочка? – подбадривает себя и меня Рубеж, который лежит через две борозды от меня.
Это он припоминает ту самую корову, наверное, воображая, как мы сейчас вели бы ее на веревочке к «острову», вместо того чтобы ползти к черту в зубы.
О, как обрадовались «вылупни», когда неожиданно увидели ее на лесной поляне: полтонны мяса на сооственных ногах и даже веревочка на рога накинута! Это было такое чудо, что «вылупни» даже уселись на травку полюбоваться и наверняка убедиться, что это не сон. Убежала, наверное, от немцев. Рубеж вытряс из кармана кортовых галифе все пылинки табака, но бумаги нет, и он пополз по траве, отыскивая сухой лист, ему нужен обязательно дубовый. Ползает, а глазами ласкает полные бока нашей буренки. Взялся высекать кресалом огонь. Пока добыл огня и покурил, успел историю рассказать.
– Была у нас в Слуцке семья одна. Вылупень Тимох, а у него полная хата девок, семейка вроде моей. Мои и теперь в Слуцке. Если старших не похватали в Германию. А что, все может быть!.. Меня как забрали в сорок втором весной в обоз – словаки тогда шли на партизан – и как попал к партизанам вместе с тем обозом, так и не подходил к Слуцку близко. От греха подальше. Жонка знает, где я, а детям лучше, если и не сказала. Не дай бог, проговорятся, что Тимох Рубеж в партизанах! Живут дома, ну и пускай живут, пока можно. Ага, так я про Вылупней… Кличка у них такая была, у той семейки. Бестолковая хата, у нас про таких говорят: «Как сало без хлеба!» Но какое там сало? Хоть бы хлеб был. Есть такие семьи, что ни говори, липнет к ним бедность, нищимница, как короста. И случилось чудо: Вылупни купили корову! У цыган. Но не были бы то Вылупни! Надо молочка – хватает кружечку и под корову. По очереди каждый. Как водопровод. Неделю или две бегали, пока не испортился водопровод.
Рубеж уже раскурил свою дубовую самокрутку и взялся срезать бересту с дерева, кружечку готовит. Вылупни, поди, надоумили!
И тут мы увидели тетку. Она держится за орешину и смотрит на незнакомых людей, ползающих возле ее коровы. Что корова ее, мы поняли сразу.
– День добрый! – поздоровался Рубеж, даже обрадованно.
– Ой, так напугалась! – женщина пошла к корове, чтобы дотронуться до нее. – Смотрю, кто это? Аж это партизаны, наши!
Сказала, как напомнила. На женщине длинная темная юбка, фуфайка, волосы растрепались, ноги босые.
– Только достала ее из ямы, пустила, отошла на шаг, а тут незнакомые люди! – Женщина все не может успокоиться.
– Откуда сами, тетка? – спрашивает Рубеж, продолжая трудиться над берестовым стаканчиком.
– С поселка, на поселке мы живем… жили. А как стали они кругом вески палить, то и к нам прилетели утречком, на самом золку. Глянула в окно – немцы, полный двор, о господи! В хату заходят, один, переводчик, спрашивает: «Вы за кем считаетесь: Убойное или Бобровичи?» Все знает гад: это ж когда-то хутора, поселки в деревни сселяли, только наш двор не успели или как-то остался. Он и спрашивает: к Убойному или Бобровичам мы приписаны? Я сразу догадалась: «Гэта ж яны приехали палить, забивать Бобровичи или Убойное. Потому и пытают, чьи мы». Гляжу на него, на детей своих гляжу. Так мне не хочется сказать, что Убойное. Не знаю… Может, потому, что в ту войну у нас многих поубивали и когда французы шли, дед рассказывал, тоже мы сгорели. Что сказать, как ответить? «Убойные?» – спрашивает переводчик. Смотрю на него: подсказывает или ловит, о господи? И не поймешь, только усмехается, с усиками такой! «Мы бобровичские», – тихонько говорю. А руки, а ноги аж загули! Он еще постоял, усмехнулся, с усиками такой: «Ну ладно…» Слышу, сказал немцам что-то про Убойное. Не Бобровичи, а Убойное. Хотела как лучше, а сама в огонь лезу. А он немцам: «Убойное!» Всетаки ты человек! Потому что они Бобровичи шли убивать. А я схватила детей, коровку вот – и в лес. Они Бобровичи спалили, всех побили, а вечером и Убойное тоже. Залетели еще раз и на наш хутор, спалили. Со мной тут семья из Убойного, женщина…
В густом ельнике вырыта яма, как делают солдаты для машин и орудий, с плавным спуском.
Тут женщина и прячет свою корову, сюда и загоняет ее теперь, как бы показывая нам, что вот тут ее место, и нигде больше. А из ямы на наши голоса поднялись, выбрались две девочки (одна – в длинном мужском пиджаке с завернутыми рукавами, вторая – едва прикрытая рваным платьицем) и мальчик, неожиданно пухлый, толстенький.
– Что же у вас песок желтый виден? – упрекнул Рубеж. – Ну-ка, малые, собирайте мох. Вашу хованку за километр заметят.
– Ой, и правда! – привычно испугалась женщина. – Мы закрывали песок, но видите, какие у меня работники.
Девочки тут же отбежали рвать мох, а пухлый мальчик подошел и, чтобы удобнее было нас разглядывать, привалился к ноге женщины.
– Сынок той женщины из Убойного. Где мама, Павлик? Там у них своя ямка.
А она уже появилась из кустов, женщина из Убойного.
– Идите смело, гэта ж партизаны, – сказала хозяйка коровы.
– Што гэта деется, хлопчики, што буде? – сразу же заговорила худенькая веснушчатая женщина, очень похожая на такую же веснушчатую девочку, которая шла за ней. Только у девочки лицо серьезное, очень строгое, а у женщины оно странно улыбается.
– Что у вас было? – спросил Рубеж.
– Что? Побили нас, и все. Из хаты в хату переходили и забивали. – Женщина сказала это как-то очень просто. – «Заходите в хату! Ложитесь ниц! Ложитесь!» И – стреляет.