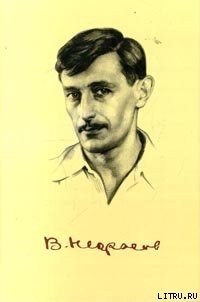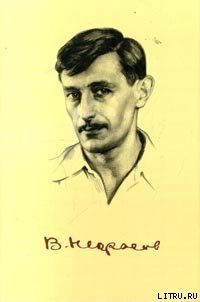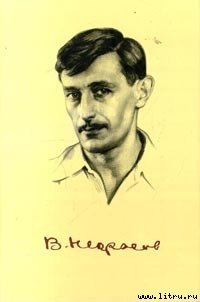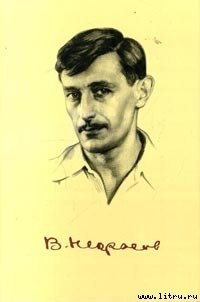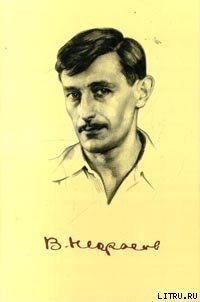Кира Георгиевна - Некрасов Виктор Платонович (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .txt) 📗
– Хорошо, приду, – донесся из трубки веселый голос Юрочки. – Вот только с ребятами тут малость…
В этом месте разговор был прерван. Дали Ленинград. Звонил и поздравлял с Новым годом двоюродный брат Николая Ивановича.
В половине третьего пришли Мишка с женой. Сразу стало шумно и беспорядочно. Миша очень громко и, смеясь больше остальных, начал рассказывать анекдоты, потом стал доказывать Николаю Ивановичу что-то из области кибернетики, которую тот не знал и не хотел знать. Потом сели за стол.
В четыре Кира Георгиевна сказала, что Николаю Ивановичу надо ложиться, а ей идти в мастерскую, и гости, хотя без особой охоты, вынуждены были уйти.
Кира Георгиевна вышла вместе с ними.
– Часикам к восьми вернусь, – сказала она Николаю Ивановичу, целуя его в лоб. – Надо все-таки посмотреть, что там делается. И Панкратихе за уборку заплатить. Неловко все-таки, столько тяну.
– А ты не замерзнешь там?
– Нет, я звонила утром Родионовым, просила, чтоб там договорились с Семеном, пусть вытопит.
На дворе было морозно. Снег под ногами скрипел и искрился в воздухе крохотными блестками. Идти было приятно и весело.
Во дворе на Сивцевом Вражке ее сразу же поймала хозяйская Люська, как всегда замотанная до макушки.
– Ой, как вас давно не было! А у нас дом на углу снесли.
Действительно, маленький домишко на углу Плотникова снесли, а Кира в прошлый раз была и не заметила. Кроме того, Люська сообщила, что умер старик с желтой бородой из второй квартиры, а сын Михнярских, Бобка, женился, и жена у него летчица. А сама она, Люська, принесла домой табель, и в нем на этот раз ни одной тройки. За это ей купили ананас, вот такой величины, за сорок три рубля…
Мастерская сверкала идеальной, немыслимой чистотой. Панкратиха поработала на славу. Пол был вымыт, занавески выстираны, а скатерть на столе оказалась вдруг розовой, хотя до сих пор была буро-коричневой. Даже развешанные по стенам маски Бетховена и Пушкина были старательно вымыты, отчего стали совсем уж безжизненными.
Последняя модель «Юности» стояла в углу и старательно была обмотана мокрыми тряпками, хотя это никому уже не было нужно. Кира Георгиевна сняла тряпки.
Скульптура ей не понравилась. Чего-то в ней не хватало. Все как будто на месте, а чего-то вот не хватает. Она прошлась по мастерской. Плохо, все плохо. И колхозница, и раненый солдат, и Барбюс, и девочка с голубем. Плохо, плохо, плохо… Ощущение было такое, будто она рассматривает что-то сделанное много-много лет назад, и не ею, а кем-то другим.
Понравилось ей только надгробие актрисы – очень низкий рельеф, профиль женщины на гладкой плите, и еще маленькая группка из пластилина – парень и девушка, сидящие на скамейке. Все же остальное казалось холодным, мертвым, придуманным. И вдруг стало жалко, что не кончила Катьку. Какая славная у нее мордашка была. Вообще, прав Николай Иванович: самое важное – это лицо… Без лица скульптуры нет. Поэтому так хорош Антокольский. В его лицах всегда мысль. В Киеве она долго стояла перед его Спинозой. Или гудоновский Вольтер со своей хитрой, лукавой улыбкой. Ей вспомнилась эта голова, глядевшая на нее с полуразвалившегося шкафа в алма-атинской берлоге Николая Ивановича, – при перевозке ее разбили и до сих пор никак не могли найти хорошую копию. Господи, как все это давно было…
Кира Георгиевна вытащила из сумки пачку сигарет, закурила – дома надо было всегда выходить в переднюю, – легла на диван, придвинула блюдечко, служившее пепельницей.
Вольтер… Спиноза… Мысль… Кира Георгиевна невольно взглянула на стоявшую в углу «Юность». Зажгла крохотную лампочку в черном колпачке, которой обычно пользовалась, когда ночевала в мастерской. Она любила этот свет. Он создавал какие-то неестественные тени, и скульптуры от этого становились непохожими на себя. Иногда даже лучше.
Свет от лампочки осветил грудь и слегка откинутую голову юноши. Ему все ясно, этому юноше, все понятно, даже те неведомые дали, в которые он устремил свой твердый, не знающий сомнений взгляд. Вадим как-то сказал: «Вот уж с кем мне не хотелось бы ни работать, ни пить, так это с этим твоим долдоном». Она тогда возмутилась: «Глупо и неостроумно».
Да, глупо и неостроумно, думала она сейчас, глядя на скульптуру и вспоминая тот разговор. Глупо и неостроумно, потому что дурацкими своими шутками Вадим пытается опровергнуть то светлое и праздничное, к чему она стремится в своем искусстве. Да, светлое и праздничное, она не боится этих слов. Пусть ее скульптура не во всем удалась, это другой вопрос, она сама это видит, но разве дело тут в том, к чему она шла? Чепуха! Вадим упрям как осел. Он не хочет понять, что искусство – это, в конце концов, праздник и что большой, настоящий художник должен уметь в жизни увидеть и впитать из нее все здоровое, светлое, радостное. Упаси бог втянуться в повседневное – утонешь. В том и сила всякого передового искусства, что оно умеет отбрасывать все мелкое, заслоняющее, путающееся в ногах. Жизнь сложна, и художник не имеет права поддаваться ей. Потому-то великие мастера и стали великими, что умели в своем творчестве возвышаться над жизнью. В конце концов, совершенно безразлично, каким в жизни был Вагнер или Микеланджело (они были и такими и сякими), – важно, что они создали великое искусство…
И тут Кира Георгиевна стала себя убеждать, что, может быть, именно потому и не получилась ее скульптура, что Вадим нарушил то приподнятое творческое состояние, в котором она находилась до его появления. Она ни в чем не винит его, упаси бог, так сложилась жизнь; но, трезво говоря, с его приходом настоящее творчество, то есть то, для чего она, Кира, живет, кончилось. И если сейчас она здесь и ждет Юрочку, ничего предосудительного в этом нет. Она хочет вернуться к тому творческому состоянию, в котором была летом, когда работалось так легко, весело, плодотворно. Надо вырваться наконец из заколдованного круга. Поэтому она здесь. Поэтому ждет Юрочку. Она освободит и его, простого, хорошего, ясного, от приземленности и путаницы, куда его – она чувствует, знает – тащит Вадим.
И ей стало легче. Ей даже «Юность» уже не казалась такой плохой. Пусть лицо и не очень удалось, но это, в конце концов, парковая скульптура, а не психологический портрет, и если уж на то пошло, то ни Пракситель, ни Фидий не ставили перед собой никакой другой задачи – об этом тоже хорошо говорил Николай Иванович, – кроме как показать красивое, гармонически развитое тело. Вот и она тоже…
Словом, надо работать. Работать, работать, работать!
В сенях кто-то затоптался, хлопнула наружная дверь. Кира Георгиевна вздрогнула, взглянула на часы. Двадцать минут шестого. Что-то рано. Но это была Панкратиха.
– Отдыхаем? Ну и отдыхай, отдыхай, правильно… С Новым годом тебя, с новым счастьем…
По всему видно было, что Панкратиха уже «поправилась»: маленькие глазки ее блестели, сухие щечки зарумянились.
– Ну как, хорошо я прибрала? Не узнать теперь мастерскую. – Она присела на самый краешек дивана и двумя пальцами вытерла уголки губ. – А сколько мусору было… Четыре мешка вынесла. А бутылочек, бутылочек… – Она весело причмокнула. – А одна целенькая была. Не тронула. Совесть имею. Вон туда, за окошко поставила, чтоб холодней было. Во-он, видишь?
– Вижу, вижу. – Кира Георгиевна стала искать сумочку, нашла, вынула деньги. – Это вам. И за уборку спасибо большое, и с праздничком.
Панкратиха сунула деньги за пазуху.
– Тебе, доченька, спасибо. Чтоб год у тебя был хороший, веселый, чтоб деньжата не переводились. Это главное. Без них-то скучно, ох как скучно… – она вздохнула, опять вытерла уголки губ. – А бутылочка-то в том углу у тебя завалялась, в старом барахле. Я ее вытерла аккуратненько – и за окошко. Чужого мне не надо. Чужое – это святое. Пусть стоит, думаю, на морозце, пригодится еще.
Панкратиха явно напрашивалась на угощение, но Кира Георгиевна делала вид, что не понимает. Панкратиха посидела еще минут пять, пожаловалась на невестку, на жильцов.
– Ну ладно, пойду уж, – вздохнула она, видя, что ничего не получается. – Внучек-то мой из армии приехал, тоже угостить надо. – Она встала и в последний раз, точно прощаясь, взглянула в сторону окна. – А ты кого ж, доченька, ждешь? Молоденького? Или того, что сдаля приехал? – И уж у самых дверей: – А муж-то твой, старичок, все еще хворает? Дай бог ему еще пожить, дай-то бог…