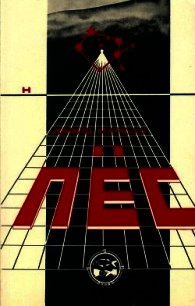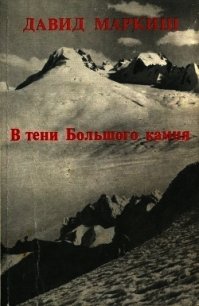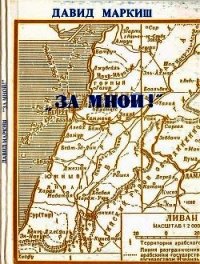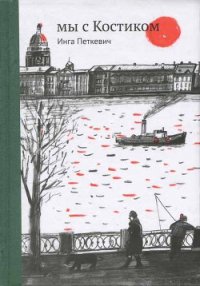Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (книги онлайн полные .txt) 📗
Хозяйка взяла собаку на руки, спрятав руки в ее шерсти, как в муфте. Неприязненно глядя на болонку, Вадим Соловьев тихо радовался тому, что сначала не заметил животное и не ощущал его присутствия все это время.
В музей шли извилистым узким коридором — впереди мужчины, потом Галя с собачкой. Отперев дверь в просторную темную комнату, Рогов щелкнул выключателем, и под потолком вспыхнула мощная лампа без абажура. Под ярким светом, точно посреди комнаты, обнаружился, к веселому смущению Вадима, высокий крендель кала.
— Опять Капа наделала! — легко нашелся Рогов. — Вот стерва…
Спущенная с рук, Капа заинтересованно подошла к кренделю и стала около него, как коза у пня.
— Надо бы убрать, — указал Рогов жене и очертил круг длинным мундштуком.
— Ну, убери, — согласилась молчаливая Галя, скучно глядя на мужа. — Капа, отойди оттуда!
По углам комнаты стояли старинные самовары, с потолка на бечевке свешивались две пары лаптей — одна новая, другая сбитая, темная. По одной стене висели иконы, по большей части без окладов, металлические кресты и складни. Другая стена была украшена резными наличниками, между которыми покоился на крюках тяжелый цеп. Берестяные туески и деревянные солонки стояли на отдельной полочке.
— Цеп музейный, — дал разъяснение Рогов. — И наличник вон тот, не говоря уже об иконах.
— Это миллионы! — печальным и глухим голосом сказал Рубинчик. — А мы на первый номер «Оси» никак денег не наскребем…
— Не будем об этом, Толя! — Рогов направил в сторону Рубинчика янтарную пику мундштука, как бы защищаясь от нападения. — Ты же знаешь, — он повернулся к Вадиму, приглашая и его к этому уже открытому Пете Рубинчику знанию, — я не продам отсюда ничего, ни туесочка. Не то что мне жалко, — теперь он говорил к Вадиму Соловьеву, терпеливо объяснял ему, — но просто я люблю все это. Я понимаю, что это не музей, что это, может, карикатура на музей. И все же здесь есть кое-что, для начала.
— А «Ось»? — с напором спросил Рубинчик. — Это что, менее важно?
— Вот посмотри, — не отвечая, Рогов поманил Вадима к хрупкой прялке, густо покрытой узорной резьбой. — Это с Севера, из-под Архангельска, вот тут у меня все записано…
Свет погас некстати, в темноте нельзя было различить стен. Вадим Соловьев остался терпеливо стоять на месте, боясь вступить в дерьмо.
— Это Шишков, подлец такой, — без раздражения сказал Рогов. — Пробки выкручивает. Как я сюда веду кого-нибудь, он всегда выкручивает пробки.
Галя, нащупав дверь, распахнула ее и закричала громким, высоким голосом:
— Жмудь проклятая! Зараза! Это ты тут наклал, мордва вонючая!
— Я русский человек и христианин, — немедля откликнулся Шишков из подозрительной близи. — И с вами, госпожа Ругерман, я не желаю разговаривать.
— Сам ты жид! — парировала Галя. — Чтоб ты сдох, гад такой!
— Безобразие! — подал голос и Рогов. — Хулиган!
— А вам, Евгений Мошкович, я советовал бы призадуматься, — отчеканил Шишков. — Я вас выведу на чистую воду!
— Плевали мы на твои советы! — сообщил Рубинчик во тьму коридора. — Вот Грузберг приедет, тогда мы тебе покажем! Весь Замок к нему перейдет!
На эту угрозу Шишков не ответил.
— Боится, — подвел итог Петя Рубинчик, выглядывая в коридор. — Ему отсюда только на кладбище съезжать.
— А кто это — Грузберг? — спросил Вадим Соловьев, пробираясь по коридору вслед за Рубинчиком. — Я что-то не помню…
— Да никто, — хмыкнул Рубинчик. — Это я просто так, пугнул его на всякий случай.
После происшествия в музее кухня не показалась такой убогой — а теплой и обжитой до приятной вонючести. Галя отлучилась куда-то ненадолго и вернулась с початой бутылкой то ли водки, то ли не водки — прозрачной какой-то хмельной жидкости, противно пахнувшей каплями датского короля.
— И как они ее тут пьют! — показно возмутился Петя Рубинчик. — Еще водой доливают, она тогда становится белая. Смех один!
— Ну, может, они привыкли, — примирительно заметил Вадим. — До нас же пили — вот и теперь пьют.
— А вино! — кисло сморщился Рогов. — В Москве я за бутылку французского какого-нибудь бордо полсотни бы отдал: шик! А здесь в глотку не идет кислятина эта… Вот так все меняется на свете, — несколько неожиданно заключил Рогов.
— Ну, это уж слишком! — возразил Вадим. — Вино вином, а чернила — чернилами: бери бумагу, пиши… Сами мы меняемся, это может быть.
У него вдруг что-то сместилось внутри, у сердца, сгустилось до свинцовой тянущей тяжести. Ему захотелось спорить, отбиваться, не принимать вот этого страшного и бесповоротного «все меняется на свете». Он, Вадим Соловьев, был и остается русским литератором. Он там писал — будет писать и здесь, и не имеет никакого значения, что пьют и едят французы и что об этом думает Женя Рогов. Жалко, что Рогов так быстро изменился, да и Рубинчик тоже. Жалко, больно.
— Ты тоже изменишься, подожди немного, — ударил по больному Рубинчик. — Женька дело говорит про порнографию: в Москве ты не стал бы этой мурней заниматься, а здесь сядешь, напишешь как миленький: надо. А другой вообще писать бросит, пойдет в лавку торговать: тоже надо.
— Жрать захочется, так пойдет, — вставила молчаливая Галя и косо, зло взглянула на Рогова. — Не у всех же жены за двоих вкалывают.
Рогов плавно повел рукой, кисть его проплыла в воздухе, длинный желтый мундштук указал вверх, в потолок — словно бы он переадресовывал озабоченную жену к иным, высшим инстанциям.
— Продай ты эти дрова! — не принимая посыла, вскинулась Галя. — Тоже мне, музей… Хоть ушли бы из этого гадюшника!
— Не продам, — твердо сказал Рогов. — Вплоть до развода. Во имя свободной России я сохраню эту коллекцию!.. И потом, Галя, не все ли равно, где ждать — здесь или в другом месте? Мне здесь неплохо.
— Опять — двадцать пять… — вздохнула Галя и сгорбила плечи под теплой шалью. — Чего ждать-то, чего? Ты хоть бы подумал, а потом бы уже болтал.
— Возвращения домой! — Рогов светло взглянул на Вадима, а потом на Рубинчика. — Мы здесь не в изгнании — мы в послании. Мы вернемся в свободную Россию!
— На белом коне или на белом мерседесе? — съязвила Галя.
— На белом танке, — вынес реалистичное суждение Рубинчик.
— И музей, и «Ось» — это наше оружие, — не принял насмешки Рогов. — В исторической перспективе, — рука Рогова снова пришла в движение, рывками поплыл мундштук, зажатый между тонкими пальцами, — мы должны победить, и русский народ…
Из подвала донеслось надсадное громкое пение. Так поют иногда русские люди после второго или третьего стакана водки; состояние их души тревожно и сладко, они поют о том, о чем следовало бы плакать в церкви или перед смертью… Шишков, как видно, праздновал свою сегодняшнюю победу над Роговым-Ругерманом.
пел Шишков, —
Богата бедная Россия жаждущими вернуться.
Хорошо, все-таки, когда есть у человека место, куда он хочет вернуться — об этом рассуждал Вадим Соловьев, бредя по парижской, по-кошачьи ласковой улице и жуя длинный хрусткий батон, который с каждым откусом становился все короче. Нет, не березовые рощи и не васильковые поля мерещились Вадиму местом желанного возврата — а его Конура на Самотеке, ее утра и вечера, и люди, спускавшиеся туда по вонючей лестнице, знакомые и почти что и незнакомые люди, приходившие в Конуру к Вадиму Соловьеву, литератору. Окажись Конура вот здесь, в подвале этого дома, на этой улице с непроизносимым названием — и все было бы в порядке. Конура и три десятка знакомых и почти незнакомых. И еще сколько-то там вовсе незнакомых — но читавших «Мощи» и кое-что из рассказов. Сколько их? Горстка, в сущности, капля! А вот перенеси эту горстку, которую здесь никто и не заметит и на которую никто внимания не обратит, сюда, в Париж — и Вадим Соловьев будет совершенно счастлив… Действительно, Бог, неужели счастье одного человека не стоит Твоего вмешательства?