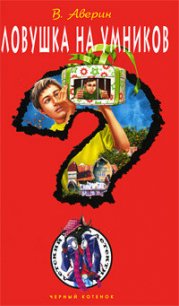Человек должен жить - Лучосин Владимир Иванович (прочитать книгу .txt) 📗
— Ждем, когда у вас кончатся вопросы. — Я не сразу понял намек шофера.
— Может, вы хотите поехать со мной? — спросила фельдшерица и посмотрела на шофера. Шофер заулыбался.
— Конечно, хочу! — с готовностью сказал я.
— Да ну! Зачем мужчине ехать, Шура? — сказал шофер. Он был в гимнастерке.
— Но если он хочет.
— А что произошло, куда едете? — спросил я.
— Роды, — сказала фельдшерица.
В темноте я не видел выражения ее лица. Она сидела справа от шофера. Она была в пальто, под ним виднелся на груди белый халат. На коленях у нее стоял чемоданчик.
— Ну, поедете? — спросила фельдшерица.
Я не знал, что ответить. Практика по акушерству в это лето у нас будет, так что…
— Ну, зачем он поедет? — Шофер смотрел на Шуру, на то место, где чуть светлело ее лицо. — Мы только привезем женщину в родилку, и все. — Что интересного? — Он включил свет. Осветились раскрытые ворота, улица и забор по ту сторону улицы. Парочка шарахнулась в темень.
— Что интересного? Но, может быть, ему хочется поехать. Я же не могу отказать, если он хочет ехать. Товарищ на практике. Понимать надо.
— Вот женщина родит, пока мы болтаем, — будет практика, — сказал шофер.
— Не поеду, — сказал я и отошел от кабины.
— Давно бы так!
Мотор взревел, и машина, обдав меня бензиновым дымком, выкатила через ворота на улицу.
Дул сырой, холодный ветер. Начинался мелкий дождик, совсем как осенью. Я поежился и побежал в регистратуру, к теплым большим лампам.
Они еще не остыли.
Я был рад, что больше не было телефонных звонков и никто не ходил по коридору. И куда могла подеваться ее карточка? Я лихорадочно работал всю ночь, и вдруг то, что искал, появилось. Она стояла передо мною в голубом прекрасно отутюженном платье и стыдливо смотрела в окно. Екатерина Ивановна сидела за столом и, улыбаясь, говорила: «Лесная улица, дом пять. Почему вы сразу не спросили? Так не дерутся за свое счастье».
Я проснулся от разговора. «Лесная улица, дом пять?» — переспрашивала регистраторша. Раскрыв глаза, я увидел, что лежу на широкой лавке, под головой стопка амбулаторных карт. Мимо снуют регистраторы. В окошечки заглядывают больные, просят записать к врачам. А я лежу, и все видят, что я лежу в регистратуре.

Я встал и спросил пожилую регистраторшу:
— Почему не разбудили меня?
— Вы так сладко спали.
— И все-таки нужно было разбудить, — сказал я, краснея. — Все население города видит, что я лежу у вас. Могут подумать, что я пьяный.
— Ничего не видно из окошка, уверяю вас, Игорь Александрович, — сказала молодая, — мы загораживали вашу голову стулом.
— Мы думали, вы сами проснетесь от шума регистратуры, а сон у вас, как у здорового ребенка. Хоть из пушек пали. — Это говорила пожилая регистраторша Александра Ивановна. Молодая чем-то была на нее похожа. Неделю спустя я узнал, что это мать и дочь.
Я сидел на лавке и с минуту смотрел, как быстро они находят на полках нужные амбулаторные карты. Была половина девятого. Я проспал утреннюю конференцию.
— Не пойму, что случилось. Нет многих карточек на своих местах, — ворчала Александра Ивановна. — Ах вот, нашлась, совсем в другом ящике. Как она сюда попала?
Амбулаторные карты, которые служили мне подушкой, я незаметно положил в ящичек и вышел. В коридоре на диванах и стульях уже сидели люди.
В своем кабинете я повесил халат, умылся, лицо и руки вытер носовым платком и заспешил в больницу.
День был солнечный, воробьи трещали по всей улице, с каждого дерева, с каждой крыши. Весело шелестела листва, звонкие ребячьи голоса доносились до моих ушей. А мне было грустно. Сердце мое плакало, честное слово!
В гардеробной тетя Дуся спросила:
— Вы что же опаздываете?
— Значит, так надо, — сказал я и пояснил: — На «Скорой помощи» дежурил… Конференция не кончилась?
— Нет еще. Рындин блокнот читает. Больной какой-то удавился.
— Удавился? — спросил я. — Прямо в больнице? А фамилию не слышали?
— Петров будто.
— Так он ушел, сбежал из больницы, а не удавился, — сказал я.
— Может, и так. А мне сказали, удавился. Только слушай — всего бабы наговорят!
— А на конференцию можно сейчас идти? — спросил я.
Тетя Дуся подумала.
— Можно, хотя Михаил Илларионович и не любит опаздывальщиков, страшно не любит, когда опаздывают.
«Не пойду», — решил я.
Надел халат и поднялся в ординаторскую. Валя сидела у окна, подперев подбородок рукой. Она сидела так минуты три, пока я не кашлянул.
Увидев меня, Валя вскочила и выбежала из комнаты.
Я раскрыл свою папку и увидел в ней фотографию, она лежала поверх историй болезней. На фото были изображены я и Валя в белых халатах. Непонятно только, почему Валина фигурка перечеркнута карандашом.
Совершенно не помню. Кто и когда успел заснять нас?
Мне стало жалко Валю. Но я ничего не мог поделать со своим сердцем. Оно еще надеялось на встречу. Я уже не надеялся, а оно надеялось. Валя меня избегала, старалась при встречах поскорее уйти. Значит, все-таки я для нее не безразличен. Что-то теплое, благодарное шевельнулось у меня в груди.
Странная штука человеческое сердце, никак в нем не разберешься, даже в своем собственном, и никакая электрокардиограмма тут не поможет. А хорошо бы: посмотришь на ленту, и сразу понятно, какое чувство настоящее, а какое — просто как эхо в лесу. Когда-нибудь и такая машинка будет, ведь нет ничего, что человек не мог бы в конце концов изобрести. Но пока что ее не придумали, и сердце болело. И я прислушивался к нему, опрашивая больных своей палаты, сидя в лаборатории за приготовлением анализов, отпуская физиотерапевтические процедуры под наблюдением Леонида Мартыновича. И даже позже, когда Чуднов собрал в ординаторской всех работников терапевтического отделения, я не смог внимательно слушать, что он говорил, хотя я всегда был рад его слушать. Он ругал сестер и санитарок. Особенно досталось Эле и Маше, ведь это в их дежурство ушел Петров.
Вскоре Чуднов всех распустил и начал звонить на фабрику, где работал Петров. Долго не мог дозвониться, телефон был занят, но минут через двадцать все же дозвонился и говорил с председателем фабкома и с директором фабрики. Они договорились действовать сообща, чтобы доказать Петрову, как важно для его здоровья возвратиться в больницу.
Потом и Чуднов ушел. Я остался в ординаторской один и начал заполнять дневники. Захотелось нарисовать Рындина. Но стол был застелен новым листом бумаги, и я не посмел. Минуту спустя вошла Валя, сказала:
— Культурные люди на столах не рисуют. — И скрылась за дверью.
Как она догадалась, что Вадима Павловича рисовал я?
Терапевт Орлова все еще болела, и я по-прежнему принимал в ее кабинете. Я успевал принимать всех больных участка, и Екатерина Ивановна говорила:
— Я бы уже выдала вам диплом, ей-богу, Игорь Александрович!
В этот день ко мне снова записался Краснов.
— Руфа, — сказал я сестре, — найдите, пожалуйста, рентгеноскопию желудка. — И я подал ей амбулаторную карту Краснова.
Она сходила в регистратуру и принесла заполненный рентгеновский бланк. Я прочел: «Ниша на малой кривизне желудка».
— Ну что, доктор? — спросил Краснов.
— Язва. Язвенная болезнь желудка. Как себя чувствуете?
— А все так же. Что ни съем, рвотой вычищает. Может, в больницу положите? Или, может, у меня не язва, а что-нибудь похуже.
— Что вы, папаша! У вас язвочка ноль пять на один сантиметр, на малой кривизне желудка. Значит, хотите в больницу?
— Как же, хочу.
— Руфа, пишите направление, — сказал я.
Вот каким я стал важным. Направления и рецепты уже почти не писал сам, Руфина писала, а я лишь подписывал.
До сих пор направления в терапевтическое отделение подписывала только Екатерина Ивановна. А что, если самому подписать? Примут или откажут? Самое плохое, что может быть, — это звонок дежурного врача. Позовут к телефону Екатерину Ивановну, она пожмет плечами и пошлет за мной. А я скажу, что просто забыл дать ей на подпись.