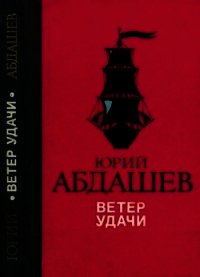Короткий миг удачи(Повести, рассказы) - Кузьмин Николай Павлович (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .TXT) 📗
— Отчего же? — И Константин Павлович назвал картину и фамилию художника. — Ничего работа. Ничего. Ну, а что еще вам понравилось… из последних хотя бы?
Константин Павлович не заметил, каким образом у него появился живой интерес к этой босоногой девчонке. Или это просто дорог ему предмет разговора, то, по чему он соскучился за последние дни?
Они пошли по улице и продолжали говорить — худощавый седой человек в изящном костюме и с тросточкой и понурая девчонка с зажатой в кулаке косичкой. Танька назвала еще несколько полотен, в свое время нашумевших на выставках, и Константин Павлович, постепенно увлекаясь, принялся рассказывать о художниках, написавших эти картины, — со многими из них он был хорошо знаком.
— А знаете, у нас здесь тоже есть, рисуют. У одного даже на областную выставку взяли. Правда!
— Интересно, — пробормотал Константин Павлович, помахивая тросточкой.
— А наш учитель пишет. Ну, сочиняет что-то…
— Борис Евсеевич?
— Вы уже знаете его?
— Вчера ехали вместе.
Они подошли к дому Константина Павловича и остановились. Танька принялась было снова чертить по пыли, но спохватилась и подобрала ногу.
— Что ж, это все неплохо… Неплохо… — неизвестно к чему произнес Константин Павлович, совсем не думая о каких-то там литературных упражнениях деревенского учителя. Танька не поднимала головы. Смешные косички и тонкие ключицы в большом вырезе сарафана придавали ей что-то трогательно детское, однако в сильных ногах, в начинавшей крепнуть фигуре уже было много женского. Особенно ему нравились глаза Таньки, темные, опушенные красивыми ресницами, и он подумал, что эти глаза очень оживили бы коненковскую скульптуру нагой расцветающей девушки.
— Ну… я пойду? — не то спросила, не то просто сказала она, взмахивая своими ресницами и с досадой поджимая корявый палец босой непослушной ноги.
— Разумеется, — ответил Константин Павлович. — Значит, что же — до свиданья?
Под пристальным заинтересованным взглядом художника что-то дрогнуло в ее доверчиво раскрытых темных глазах, она опустила ресницы, но тут же вскинула снова, и ответный взгляд ее получился чуточку лукавым и загадочным. Константин Павлович приятно удивился, хоть ему и неловко стало своего пошловатого тона, сделал шутливый церемонный поклон, чем смутил ее окончательно, и, постукивая тросточкой по лопухам, необыкновенно живой походкой направился домой.
Дома, не зажигая огня, сумерничали Дарья и однорукий Серьга.
— Долго, долго, мил человек, гуляешь! — бодро встретил Константина Павловича инвалид. — Мы уж заждались.
— Извините, не знал, — проговорил Константин Павлович, успев разглядеть на столе начатую поллитровку.
— К нам присаживайтесь, — радушно пригласил Серьга и шибко налил в пустой стакан из поллитровки.
Поднялась Дарья, тихо спросила:
— Проголодался, поди? Садись, я сейчас соберу.
Константин Павлович сел за стол, пощупал клеенку и осторожно поставил локти, — переодеваться он не стал. Инвалид был навеселе, размяк и настроен был поговорить. Он часто затягивался из папироски, вскидывая голову, сильно дымил и пепел стряхивал в распахнутое окошко. Пустой рукав его пиджака был засунут в карман.
— Вы извините, Константин Палыч, что я это… так вот… — начал он, выкидывая окурок. — Незваный гость, конечно, сами понимаем…
— Что вы, что вы! — горячо запротестовал Константин Павлович. — Я очень рад. Уверяю вас!
— Ну рад не рад — не в этом дело. А я к тетке Дарье частенько захожу. Дело бобылье, — посидим, поговорим. У нее свое, у меня свое. А нынче иду — и диву дался: яблоня-то у вас! За-поз-дала заневеститься! — Серьга выглянул в окно и долго смотрел на расцветающее дерево, сокрушенно покачивая головой. — И вот скажи — совсем человеческое дерево! А? Все одно как человек какой, — хочет взять свое, и точка.
— Закон природы, — сказал Константин Павлович, чтобы поддержать разговор.
— Верно сказали! — тотчас подхватил пьяненький Серьга. — Закон. Но — дурной закон.
Константин Павлович удивился.
— А я сейчас вам скажу, — пояснил Серьга. — Я скажу… Тетка Дарья, — позвал он собиравшую брату ужинать Дарью. — Тетка Дарья, ведь эта яблоня, кажись, у вас года три яловая ходила?
— Два, — уточнила Дарья. — Два. Я уж сказывала, что совсем собирались рубить, а она — на тебе!
— О! — Серьга поднял палец. — Слышишь? Вот так и человек какой, а чаще всего бабы — самое-то золотое времечко профукают, а потом как хватются да как начнут выкобенивать, — ну как вожжа все одно под хвост попала. Что, не согласны?
— Да н-нет, — неуверенно ответил Константин Павлович, принимая из рук сестры тарелку. — Только я должен сказать…
— Нет, нет, нет! — вдруг горячо запротестовал Серьга, хватая его за руку, и Константин Павлович замер с не донесенной до рта ложкой. — Вы выпейте, выпейте, а после уж и закусите. Давайте-ка, — и он звякнул своим стаканом в стакан Константина Павловича.
В сумеречном свете была четко видна граница налитого в стакане.
— Сопьюсь я у вас, — усмехнулся Константин Павлович, поднимая тепловатый стакан.
— А, умный проспится, дурак — никогда, — заявил Серьга и заученным движением, не глотая, вылил водку прямо в горло.
— Практика, — заметил Константин Павлович.
— Есть немного, — согласился Серьга, со слезами шохая ломтик малосольного огурца. Захрустел. — Так вот я вам и говорю, — снова начал Серьга, прожевывая огурец. — Про яблоню или все одно что про людей. Бабы эти… Я уж не помню, но, кажись, у немца какого-то я читал… Цвейг. Знаете, такого? Ну вот. Здорово он про баб пишет! Так их, сучек, и выворачивает.
— Ненавидите, я вижу, вы их, — вставил Константин Павлович, пригубив из стакана и быстро заедая.
Серьга гневно фыркнул:
— Да есть за что!
— А Цвейга всего читали?
— Все, что было в клубе, все прочитал. У нас теперь с книжками раздолье.
— Вот это хорошо, — сказал Константин Павлович, и вышло у него неожиданно тепло, искренне и убедительно.
— Но больше всего я люблю… эту… как ее?.. Ольгу… Ольгу… Да за историю все пишет!
— A-а… Форш? — подсказал Константин Павлович.
— Во, во, Форш. Здорово баба пишет. Прямо как мужик. Молодец!
Константин Павлович поел, отодвинул тарелку. Сестра спросила:
— Еще?
— Нет, спасибо.
Единственной рукой Серьга вынул из кармане сильно надорванную пачку папирос и прямо из пачки взял папиросу зубами. Закуривая, он помахал рукой, гася спичку, и сощурился от дыма закушенной папиросы.
— А вот вам, — сказал он, — не мешало бы обратить внимание на одного товарища из местных.
— А что такое? — заинтересовался Константин Павлович.
— Да пишет человек. Про нас сочиняет. Я, правда, не читал, но… головастый же мужик!
— A-а, Борис Евсеевич?
— Знаете уже? — удивился Серьга.
— Слышал. — Константин Павлович вспомнил рассказ Таньки, вспомнил саму девушку, и в груди его неожиданно отозвалось тепло и грустно, и ему захотелось остаться одному.
Вернулась убиравшая со стола Дарья и спросила, не зажечь ли свет.
— Нет, нет, не надо, — запротестовал Серьга и стал собираться. В низенькой темной кухне он показался неожиданно высоким, головой под самый потолок. Он стоял и привычно охлопывал себя рукой по карманам.
— Да посидел бы, — сказала Дарья. — Куда тебе торопиться?
— К куме пойду, — отозвался в темноте подобревший голос инвалида. — Кума теперь уж заждалась.
— Поклон ей, — сказала Дарья.
— Ладно… Ну, прощевайте пока. Извиняйте, что не по звану зашел.
— Да будет тебе! — запротестовали и Дарья и Константин Павлович. — Заходи почаще.
После его ухода брат и сестра посидели еще и Дарья рассказала печальную Серьгину историю. По ее словам выходило, что женился «мил человек» по отчаянной любви и, когда на следующий после женитьбы год грянула война, он в немыслимой тоске от предстоящей разлуки хотел чуть ли не руки на себя наложить. Переживал он страшно и на фронте, и уж потом, после войны, в сильном подпитии говорил как-то, что потому его и пуля никакая не взяла, что очень уж он любил и метался сердцем, а от пули якобы большая любовь заколдована. Но, знать, недаром металось неспокойное Серьгино сердце, чуяло недоброе, — так оно и оказалось. Вернулся он к опозоренному дому, к разбитой семье и с тех пор ожесточился и о бабах говорил только уничтожающе, делая единственное исключение для кумы, одинокой, немолодой уж фельдшерицы, которую давно знала и любила за доброту и отзывчивость вся деревня.