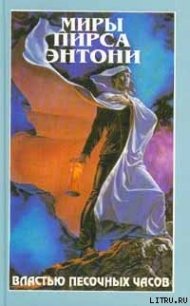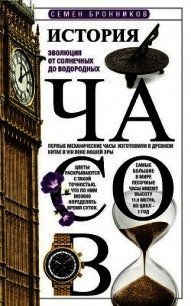Песочные часы (Повесть) - Бирзе Миервалдис (версия книг .txt) 📗
В то утро я, как обычно, отворил дверь кабинета и замер на пороге — рядом с телефоном на столе лежала фуражка немецкого офицера и в ней перчатки.
На моем стуле восседал молодой красавец в форме лейтенанта. Черные очки, блестящие, напомаженные волосы. Он равнодушно взглянул в мою сторону, как будто дверь отворило сквозняком, и продолжал писать. Перед ним лежала груда историй болезни. Офицер быстро перелистывал их и сортировал на две стопки. Закончив, он еще раз посмотрел в мою сторону, на этот раз заметил меня и сказал: «Вы, наверно, врач?» — «Директор этого санатория», — ответил я. Тогда он хлопнул ладонью по большей стопке. «Вот эти должны в течение двух часов покинуть санаторий». — «Но почти все — тяжело больные», — говорю я ему. «Через два часа на их койки положат наших раненых». Сказал и ушел.
Через два часа потянулась к шоссе вереница бледных, изможденных людей со своими пожитками. Большинство из них через всю Латвию добиралось до дома пешком, поезда перевозили только военных. Мало кого из них довелось мне встретить после войны. Правда, один из тех бедняг, Алдер, сейчас лежит у меня.
Через несколько часов прибыла колонна санитарных машин. Санаторий поделили на две части. Мы оказались приживалами в собственном доме. Но и это было не все. Под вечер в санаторий прикатили айзсарги. Ни о чем не расспрашивали, а прямо прошли в корпус. Я встретил их уже на лестнице, когда они выводили двух молодых парней в больничных халатах. Руки у обоих были связаны. Я загородил дорогу. «Это больные», — говорю айзсаргам. «Это марксисты и коммунисты», — слышу в ответ. «Они ведь еще мальчишки и к тому же больные». — «Бросьте, доктор! Теперь мы спросим с этой комсомолии». Меня оттолкнули. Я хорошо знал этих айзсаргов, они жили в нашем поселке. Три года я с ними разговаривал как с людьми, нередко лечил их близких. «Теперь все пойдет по закону, — сказал один из них. — А за халаты вы не беспокойтесь, вам их вернут». — «Сперва я их вылечу, а тогда и будем разговаривать», — пытался я хоть как-то воспротивиться самоуправству. «Не стоит зря тратить лекарства». Один юноша сказал: «Спасибо, доктор…» Я шел следом за ними до леса, где стояли две подводы. «Я как врач несу ответственность… Я отвечаю за них головой!» Долговязый мельник Пумпур, в тот день вырядившийся в офицерскую форму, обернулся и сказал: «Доктор, ступайте-ка отсюда, не то мне придется отвечать за вас». Он изучал экономику и считался образованным человеком.
Через полчаса раздались выстрелы. Позднее в лесу мы обнаружили несколько засохших елочек. Их можно было вырвать рукой, потому что они были просто воткнуты в песчаные холмики.
Расстрелянные были марксистами, как тогда говорили. Стало быть, погибли за идею. Но ведь идею не убьешь пулей и не зароешь в лесу!
Они немного помолчали, будто увидели перед собой те елочки, что можно было вырвать рукой.
Эгле зажег свет, и они обнаружили, что бутылка пуста.
— И для чего ты мне рассказываешь про самый что ни на есть мрак? — вздохнул Мурашка.
— Потому что это самое важное в моей биографии. Кто-то в темноте выпил наше вино.
Эгле убрал пустую бутылку, затем снял с книжной полки два толстых словаря. За ними оказалась плоская фляга.
— Медицинский спирт плюс аква фонтанеа. — Он налил Мурашке и себе в маленькие глиняные кружечки. — После войны мне трудно было поверить в то, что люди бывают только хорошие. Я по-прежнему продолжал, видеть свой долг в помощи человеку, считал, что обязан выполнять священную клятву, записанную в дипломе врача, — облегчать страдания больных. Этим я и занимался, напоминая самому себе: помогай другим, но сам ты не более как скальпель в руках медицины. Кстати, знаешь, вскоре после войны один ответственный товарищ в министерстве спросил меня: «Значит, во время немецкой оккупации вы продолжали работать в санатории и считались главным врачом?» — «Да». — «Значит, оказывали содействие оккупантам?» — «Об этом спросите у оккупантов и больных — кому я оказывал содействие», — ответил я. «Чего там спрашивать, это и так ясно, из фактов. Что ж, работайте пока». Я вышел от него как оплеванный, и это ощущение не покидало меня несколько лет. И тогда я вложил в альбом вот эту пластинку. — Эгле вынул последнюю.
Полилась плавная мелодия. В ней не было тревоги и напряжения борьбы, как в «Эгмонте», не слышалось и щемящей грусти, как в романсе Глинки. Она была чиста и прозрачна, как трель жаворонка над весенней рощей.
— Бах. Это музыка о самой музыке. Два года назад я был в Лейпциге. В церкви Томаса есть надгробная плита с надписью: «Иоганн Себастьян Бах». В тот вечер был концерт. Я слушал Баха и смотрел на готические своды, их принято уподоблять молитвенно воздетым рукам. Между прочим, я музыку не только слышу, но и вижу. Тогда мне казалось, будто я лежу на лесной опушке и смотрю на ели. Их ветви нависали надо мной. Верхушки уходили к самому небу. Вокруг царил покой. Вот и музыка эта устремлялась к небу. Я полюбил ее. Это музыка о музыке. Чистая музыка.
— Такой не бывает. — Мурашка с улыбкой погладил свою лысину в кудрявом венчике. — Ее создал человек. Она создана для людей, а не для неба.
Эгле задумался, потирая виски.
— Быть может, ты и прав. Тогда в лесу, где остались мои больные, я нашел несколько латунных гильз. И тогда же мне пришло в голову, что я до сих пор как-то не задумывался над тем, что патроны существуют, чтобы расстреливать людей. Лишь недавно, вновь перебирая все это в памяти, я сообразил, что всегда был только врачом, лекарем, а не слишком ли это мало? Врач — не целебный родник из которого страждущий напьется, и дело с концом. Родник — не человек, он лишен души. Врач — человек, и он обязан вникнуть во все, что переживает его пациент, должен пытаться постичь самое жизнь. А я, как видно, упустил из виду, что медицина это еще не вся жизнь, а лишь часть ее.
— Не нравишься ты мне сегодня. Когда на меня находит меланхолия, я пью вино и разбиваю полдюжины тарелок. Фаянсовых, самых дешевых. — Мурашка взял тарелку с клубникой.
Эгле улыбнулся.
— Полдюжины тарелок у меня нет, буду бить тебя.
— Давай. На что не пойдешь ради друга. — Они подняли кружечки с разведенным спиртом.
Эгле было хорошо с Мурашкой, он отвлекся от своих мрачных мыслей. Тем не менее время было позднее, и Мурашка накрыл свою лысину беретом.
— Я еще успею на автобус. С утра ко мне придут позировать.
Эгле взял палку и проводил товарища до автобусной остановки.
Вино и несколько глотков спирта не прогнали усталость и сон, однако Эгле хотелось еще поговорить с кем-нибудь. На той стороне шоссе горела лампочка над воротами мелиоративной станции. На дворе около тракторов копошились люди, но Эгле не знал их. Янелис спит, не стоит его будить ради того, чтобы поговорить о жизни. Его волнует только завтрашний экзамен по физике. «Пьян», — подумал о себе Эгле. Он свернул в аллею, которая вела к санаторию. Перед самым носом что-то промелькнуло. Летучая мышь. Говорят, у них имеется ультразвуковой локатор. Потому ни на что и не натыкаются в темноте. Будь такое приспособление у человека, он в пьяном виде не набивал бы себе синяков. Ну и хорошо, что нет, а то пили бы еще больше…
Шагах в десяти от дороги, за молодыми яблоньками и кустами жасмина, притаился дом персонала санатория, в уютной мансарде этого дома еще горел свет. Своеобразный уют ей придавала покатая стена с тахтой возле нее. А еще там была набитая книгами полка, платяной шкаф с гнутыми дверцами, отделанный карельской березой, какие были в моде лет десять назад. У окна стояла двухэтажная подставка для цветов. Подставку занимали шипастые кактусы. Чуть не на пол-окна развесила свои плакучие веточки фуксия. Ветки были облеплены бутонами, из которых уже высунулись белые носики. На столик перед тахтой падал неяркий свет плафона.
Здесь жила Гарша.
Дома она была совсем не такая, как в санатории — строгая старшая медсестра в белом халате. Сейчас на ней было свободное домашнее платье, запястье украшал широкий янтарный браслет, и она определенно не собиралась придирчивым оком проверить подоконники, нет ли на них пыли или же пересчитать таблетки в шкафчике с лекарствами.