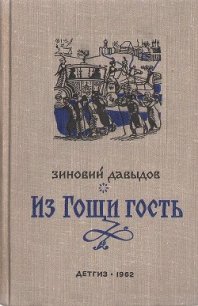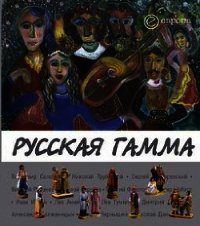Русская служба и другие истории (Сборник) - Зиник Зиновий Ефимович (читать книги без .TXT) 📗
И вот срок наступил: по коридору, выкрашенному санитарной краской, где над головой извивались трубы отопления, как в котельной, Наратор двигался печальным демоном навстречу изгнанию из эфира: по данному коридору ему до пенсии дойти не дадут, а уволят с компенсацией за выслугу лет, ее хватит до следующей каденции, а потом придется подыскать безъязычную работу, где будет еще один коридор, хватит в общем на «фиш с чипсами». В его продвижении по коридору было нечто от похоронки, останавливающей внимание всех уличных зевак. Наратор не догадывался, как быстро распространяются слухи в толкотне Иновещания: тут все умножается, как эхо, и через минуту после начала первого выпуска новостей все уже знали о неких звонках, входящих и исходящих из кабинета Гвадалквивира, и в симультативно обратных переводах с русского и комментариях по коридору, во всех их балкано-славянских версиях, намекали на новую попытку покушения отравленным зонтиком. Чертик из табакерки, каковой и являлось Иновещание, верещал на разные голоса: поговаривали, что Наратор был в действительности не дефектором, а нашим человеком в Союзе, укравшим секрет советских правительственных шифровок, пересылавшихся через газету «Правда» обкомовским работникам органов на местах и резидентам за границей, и что нынешняя служба Наратора на Иновещании состояла в том, чтобы через орфографию и ударения в нужном месте передавать «месседжи» нашим шпионам у них насчет того, в какой колонке газеты «Правда» чего читать, и что шифр был такой хитрый, что к этому делу был привлечен даже известный английский драматург Бернард Шоу. Другие, наоборот, доказывали, что этот самый Бернард, конечно, замешан в работе Наратора, но по другую сторону баррикад и железного занавеса: отъявленный левак и соглашатель, сотрудничавший с Обществом британо-советской дружбы, этот самый Бернард Шоу кулинарит «лобио» в английском парламенте, пытаясь навязать культурное соглашение между Англией и Советским Союзом по обоюдному усечению алфавита.
«Он даже ездил в Россию», — говорил один другому.
«Кто, Наратор? Его туда пускают?!»
«Не Наратор, а Бернард Шоу. И ему, заметьте, Россия понравилась».
«Да не говорите глупостей, — вмешивался третий. — Он, конечно, сказал, что любит Россию. Он только не объяснил, за что он ее так любит. Он был парадоксалист. Он сказал о России: они выбросили Бога за порог, а он влез к ним через окно в форме самого фанатичного католицизма под названием НКВД».
«Сейчас НКВД называется КГБ. Почему вы говорите о нем в прошедшем времени?»
«Потому что он давно умер».
«КГБ? Не смешите меня!»
«Не КГБ, а Бернард Шоу. А Наратор — его последователь».
Не последователь, а наоборот, говорил четвертый: понимая неминуемость алфавитного разоружения, Наратор, как главный спец в ударениях, разрабатывает такой лексикон, чтобы при лагерной пайке букв в будущем алфавите свободного мира, сменяя ударения в одном слове, можно будет получать разные значения, вроде как «зАмок» и «замОк», и что якобы словарь этого нового лексикона засылается и распространяется среди слушателей Иновещания в Советском Союзе через некоего звукоподражателя херсонской эстрады Копелевича. Выходила из этих гипотез в общем некая чушь, но это никого не смущало, потому что на Иновещании привыкли: если новость сначала оповещается, а потом опровергается, то затем последует опровержение предыдущего опровержения, после чего подтверждение с поправками того, что замалчивалось в последующем опровержении, и вообще слово и дело настолько связаны, что одного без другого не бывает, и не важно, что было первым, слух о яйце или о курице. Жизнь на Иновещании испарялась в эфир вместе со словами, и слова эти продолжали парить там вечно, заспиртованные в этом эфире, как конечности человеческого тела в спирту анатомического театра, откуда их изымают по мере надобности; и слова о прошедших катастрофах, законсервированные в эфире, всегда можно было употребить для катастроф предстоящих, как вечно повторяющееся эхо собственного голоса, когда уже неясно, где эхо, а где голос. Утомленные эхом от событий в других частях света, сотрудники Иновещания были рады узнать нечто такое, что произошло на расстоянии непосредственного касания: Наратор был событием будущих новостей, которое можно было пощупать руками. Выяснилось, что о Нараторе никто ничего толком не знал. Толпящиеся в коридоре сотрудники провожали Наратора долгим проницательным взглядом, специально задавали ему разные глупые вопросы о пищеварении и насморке, пытаясь вытянуть из Наратора свидетельство его присутствия в этих стенах, рядом со всеми, чтобы самим стать соучастниками предстоящей катастрофы, но при этом остаться в живых. Нашлись и такие, кто тут же стал собирать подписи под петицией главе правительства, где говорилось, что администрация Иновещания в своей аполитичности между двух стульев дошла до попустительства, и требовали прибавки к зарплате за вредность «по зонтикам». А заведующий религиозными программами, священник в миру, отец Марк Сэнгельс, поспешил к нему навстречу, грозно выставив палец. «Не уклоняйтесь», — кричал он с другого конца коридора. «Я не уклоняюсь», — испуганно сказал Наратор, думая, что отец Марк хочет сделать ему очередное дисциплинарное взыскание. Но тот долго жал Наратору руку и сказал, чтобы слышали даже албанцы: «Не думай, что ты одна спасаешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придут для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» — не выпуская руки и заглядывая Наратору в глаза, громыхал отец Марк. Наратор привык, что тот, как всякий англичанин, путает мужской род с женским.
«Я — он», — сказал Наратор.
«Именно! Именно это и хочет сказать религиозный инакомыслящий, который цитирует Книгу Эсфирь в письме, которое я только что процитировал. Именно! Я — ты, а ты — он, и все мы — Эсфирь, мы живем в эпоху Эсфирей, вы понимаете?» И, завлекая новоявленную Эсфирь в тайны своего иновещания, он извлек письмо этого самого религиозника из Союза; приперев Наратора к стенке, Марк Сэнгельс стал водить пальцем по строкам, пытаясь выяснить непонятное место:
«Лишенному души все прелести что вши. Вот. Это как надо понимать?»
«Все прелести как вши. Тут слово что надо понимать в смысле как. Как вши», — почесав за ухом, ответил Наратор.
«А, ну да, — сказал отец Марк. — Как вши. Ну да. Русские вши».
«Это почему же обязательно русские? — обиделся вдруг Наратор. — Вши, знаете, разных национальностей бывают».
«Да тут дальше написано, — тыкал в страницу англичанин, — вот: ели вши. Русские, как я понимаю, вши. Со сметаной».
«Да вши, понимаете, прыг-прыг, вши — а не щи! — на весь коридор заорал Наратор, и в голосе его была давно копившаяся злость за политичную улыбку, которой приходилось кривить губы, и за кривую улыбку тех, кто предоставил ему политическое убежище не потому, что уважали его, а потому, что уважали самих себя, предоставляя убежище, а на него им всем было наплевать, трижды накласть. — Вши, которые едят, а не щи, которых едят, — кричал он на побледневшего англичанина, вообразившего себя русским. — Я не уклоняюсь, — кричал Наратор, — это вы уклоняетесь. От меня уклоняетесь!» И припомнил, что отец Марк Сэнгельс называл Наратора «гоем православной религии», путая гоя с изгоем. «Сам никогда на Мясницкой не был, а рассуждает про то, что в России едят, разные щи, грибы и ягоды. Грибоедова читали? — напирал Наратор в измятом матросском бушлате, не снимавшемся со вчерашнего дня. — Вместо того чтобы про Эсфирь долдонить, вы бы лучше Грибоедова почитали. На художника Мясоедова поглядели б. Вы всегда на руку Москвы воду лили!» — кричал Наратор, загоняя англичанина в тамбур перед дверью начальника. Из-за стола у окна поднялась секретарша Гвадалквивира: в любой другой день эта колченогая паночка-панк с копной волос цвета радуги подняла бы как всегда презрительно свои выщипанные брови; но тут она поспешила навстречу и, тронув орущего благим матом Наратора за плечо, сказала: «Не присядете ли?» — и сама подвинула стул. Отец Марк Сэнгельс воспользовался заминкой и ретировался. Наратор плюхнулся на стул, отирая пот бескозыркой. Секретарша перехватила взгляд Наратора, обнажила острые зубки в производственной улыбке, и, вместе с резко наступившей тишиной в эфире, вернулась мысль, что этот день на Иновещании будучи станет для него последним. Из двери напротив, через коридор, доносился утробный голос, размеренно диктующий перевод машинистке: