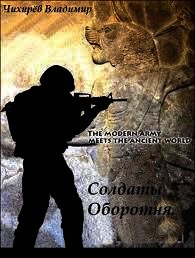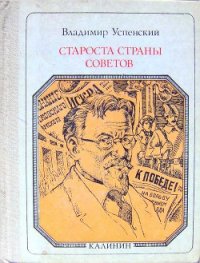Неизвестные солдаты, кн.1, 2 - Успенский Владимир Дмитриевич (книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
О распоряжениях, которые получал в комендатуре, староста сразу рассказывал Григорию Дмитриевичу. Будто советовался. Слушал внимательно, а сам поступал по-своему. Прислали немцы приказ: переписать в деревне скот и убой этого скота запретить. Григорий Дмитриевич посоветовал не учитывать всю живность. Если окажется скотина в списке – дело пропащее. Увезут в Германию, а народ останется без мяса. Дед Крючок за умные слова поблагодарил, но сделал иначе. Вечером привел к себе на двор колхозного бычка, трех овец и забил их. Засолил целую бочку говядины. Овечьи тушки повесил морозиться на чердак. В ту ночь резали скот в каждом доме. Крючок будто и не слышал рева, поросячьего визга. Но зато через пару дней, вместе с приехавшим из города полицаем, переписал дотошно всю уцелевшую живность, не занеся в тетрадь разве только одних кошек. Каждую хозяйку предупредил: пропадет скотиняка – немцы голову оторвут.
– Никак я, Григорь Митрич, в толк не возьму, почему это хвашисты колхозы распущать не велят? – удивлялся староста. – На кой ляд им эти артели? Это же социализма, ядрена лапоть, а хвашисты ее не отвергают!
– Погоди, время придет – отвергнут. Сейчас им невыгодно хозяйство дробить. Через колхоз им управлять легче. И грабить легче. Они же понимают: если народ растащит весь скот, растащит все семена, весной сеять нечем будет. А им урожай нужен, хлеб нужен.
– Это что же такое получается! И при Советах колхозы, и теперя никакого просвету. Чего же они, хвашисты, по нашему планту живут?
– План у них, разумеется, свой. И артели они со временем ликвидируют. Гитлер писал в своей книге, как он намерен дело поставить.
– Ну-ну! – оживился Крючок. – Землицу-то они что? Про это прописано?
– Лучшие земли отойдут немцам-колонистам. Какие похуже – холуям, вроде тебя. А остатки – крестьянству. По наперстку на брата. Хочешь – помирай, хочешь – в батраки иди.
– А мне, значит, дадут?
– Тебе обязательно кус отвалят, ты выслужишь.
– Выслужу, – сказал Крючок. – Ежели поверю, что эта власть прочно стала, добьюсь своего, хоть жилы лопнут.
– Да на кой шут она тебе, земля эта! – удивился Григорий Дмитриевич. – Ну, проскрипишь ты от силы еще лет десять. А там за глаза трех аршин достаточно.
– Не-е-ет, шалишь, ядрена лапоть, – погрозил пальцем Крючок. – Я хоть пять лет, а поживу, как хочу. Всю жизнь на мне ездили, так я хоть перед смертью в свое удовольствие на других покатаюсь. С детства такая у меня мысля: на своей земле своей жизнью пожить. И пожил бы, ядрена лапоть, если бы не эта твоя советская власть. Очень я, Григорь Митрич, в обиде на большевиков, потому как много раз они мне на хвост наступали.
– Да был ли у тебя, хвост-то? – усмехнулся Булгаков.
– Был, – сердито ответил Крючок, и даже ногой притопнул. – Был, хочь и небольшой, да свой. Еще при царе мы с покойным брательником в город на заработки ходили. Десять лет ходили. Грошики берегли, с хлеба на воду перебивались. Ан, поднакопили деньжат да у дубковских мужиков ха-а-ароший клин прикупили. Землица черненькая, палку воткнешь – дерево вырастет! Где та земля? А? – выкрикнул дед, раззявив рот с подгнившими, черными, но еще острыми зубами. – Отняла земельку революция-то ваша! Сглотнула и не выплюнула.
– Земля всем нужна, все есть хотят.
– Кто жрать хочет, работать должен, а не на печи вшей ловить. Кто работал, тот завсегда кусок хлеба имел. Ну ладно, про старое вспоминать нечего. А вот за что меня в другой раз портфельщики кровно обидели? Сами орали бывало: голод, братцы, в Рассее, жмите дюжей, хлеб давайте! Я и поверил. Жал, хребта не жалел, поправлял хозяйство…
– Для себя старался.
– Это извини-подвинься. Портфельщики твои больше половины урожая отымали. У меня кости трещали, у меня грызь от таких тяжестей из живота вываливалась. Городские рабочие, да бабы, да эти самые бездельные портфельщики мой же хлеб жрали, а надо мной измывались. И налогами притискивали, и елементом обзывали, и в подкулачники меня вывели. Не скумекай я в ту пору хозяйство распотрошить – укатали бы в тайгу пенечки считать. А за что? За то, что государству хлеб и мясу давал?..
– Батраков имел?
– Какие батраки – двое парнишков. Дал им работу, одел, обул.
– В лапти?
– Я и сам в лаптях ходил.
– А парнишек бегом гонял с темна до темна.
– Наше дело не городское. Урожай не родится, пока потом его, не польешь.
– Ты поливал, да только чужим.
– И своего не жалел. Говорю – грызь вывалилась! – крикнул Крючок. – Работали, всю страну досыта кормили. А как угробила ваша власть хозяйственного мужика, так и пошли голодовки. Только и знали – пузо подтягивали.
– А ты не злись, не злись, – успокаивал Григорий Дмитриевич.
В этом разговоре он чувствовал себя сильнее деда, верил в свою правоту. Интересной была для него такая беседа. Сколько уж лет знал он этого человека с жидкими волосиками на висках, с гусиной шеей воспринимал его как чудаковатого шутника… Только теперь вывернулось наружу его ядовитое нутро. А не случись война, так и умер бы, не раскрыв себя…
– Слушай, дед, ведь ты тогда одним из первых в колхоз вступил. Как же это так получилось?
– А я что, адиёт какой? Видел, чай, с какой стороны ветер дует.
– Зачем же ты дурака-то все эти годы валял?
– С дураков спроса меньше.
– Радуйся теперь, дождался ты своего. Народ кровью умывается, а тебе немцы кусок вернут.
– Мне до народа дела нету. И ему до меня тоже. Подохну я, народ и слова не скажет. А радоваться мне еще вроде рано. Устойчивости еще не вижу. Ты-то, Григорь Митрич, как думаешь – возвернутся наши?
– Для кого наши, для кого чужие.
– А откель ты знаешь, кто мне свой, кто чужой? Я вот у немцев числюсь, а тебя покрываю. Это какой фунт, а?
– На всякий случай двойную игру ведешь.
– Как хошь понимай, ядрена лапоть, – посмеивался Крючок. – Рыбка ищет где глубже, а человек – где лучше.
– Если немцы закрепятся, выдашь меня?
– Ни боже мой, Григорь Митрич, земляк! Напраслину возводишь. Зачем мне тебя выдавать, ты сам попадешься… А вот ужо возвернутся красные, мне за тебя почет будет. Верно, Григорь Митрич? Словцо тогда за меня замолвишь?
– И не надейся.
– Все одно зачтут в заслугу. Партейного большевика из района сберег. Крути не крути, а козырь мой!
– Действительно, дед, темная у тебя душа. То мед с языка точишь, то яд пускаешь.
– Не при Советах живем, теперича свобода слова, что хочу, то говорю.
– Ты про немцев плохое скажи.
– И про них можно. Жадные басурманы, навроде турок. За одни валенки с калошами работать наняли. Ни жалования, ни трудодней…
– Ох, не знаю, чья пуля по тебе плачет – наша или немецкая.
– Мне этих пулев задаром не надо, я промеж ними вывернусь. Старый дурак, какой с меня опрос!
…Уходил Крючок домой поздно, оставляя в душе Григория Дмитриевича тревожную неопределенность. Герасим Светлов этих разговоров обычно не слушал, по привычке засыпал рано. Зато Василиса, тихонько сидевшая в дальнем углу горницы, не пропускала ни слова. Как-то после ухода Крючка подвинула к столу свою табуретку, сказала:
– Если что, припугнуть его можно. Есть в деревне двое парней… Наказали мне спросить вас.
– Не надо, – качнул головой Григорий Дмитриевич, глядя на девушку.
Голубоглазая, светловолосая, с белой, будто из мрамора выточенной шеей, она очень похожа была на свою покойную мать, с которой не раз плясал Булгаков в далекой своей молодости.
– Не надо пока, – повторил он. – Посмотрим, что дальше будет. Крючок еще ничего, не было бы хуже… А парней ты как-нибудь вечерком ко мне приведи. Посидим, потолкуем.
– У них и наган есть, – тихо призналась Василиса – Тяжелый, я сама трогала. – Прислушалась к храпу отца.
И добавила шепотом:
– Вот как тепло наступит, мы в лес уйдем…
– Ты тоже?
– Ага, только вы тяте не говорите.
– Ладно, конспиратор, – Григорий Дмитриевич ласково заправил ей за ухо прядь волос. – Тятьке я не скажу. Но уговор – без меня ничего не предпринимайте. Считайте это приказом.