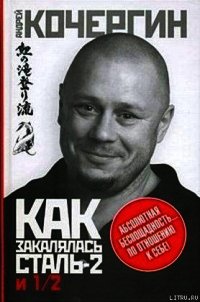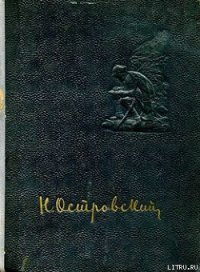Как закалялась сталь - Островский Николай Алексеевич (лучшие книги читать онлайн бесплатно .txt) 📗
– Эй, хлопцы, слазь с коней! – обернулся он к обступившему его конвою. – Представление начинается, – пояснил он. – Хлопцы, по черепкам никого не стукать, на то будет еще час; баб тоже, если не велика охота, до вечера продержитесь.
Один из конвойников, оскалив крепкие зубы, запротестовал:
– Как же так, пане хорунжий, а ежели по доброму согласию? Кругом заржали. Паляныця посмотрел на говорившего с восхищенным одобрением:
– Ну, конечно, если по доброму согласию, валяйте, этого запретить никто не имеет права.
Подойдя к закрытой двери магазина, Паляныця с силой толкнул ее ногой, но крепкая дубовая дверь даже не дрогнула.
Начинать надо было не отсюда. Адъютант завернул за угол, направился к двери, ведущей в квартиру Фукса, придерживая рукой саблю. За ним двинулся Саломыга.
В доме сразу услыхали стук копыт по мостовой, и, когда топот затих у лавки и сквозь стену донеслись голоса, сердца словно оторвались и тела как бы замерли. В доме было трое.
Богатый Фукс еще вчера удрал из города со своими дочерьми и женой, а в доме оставил стеречь добро прислугу Риву, тихую забитую девятнадцатилетнюю девушку. Чтобы ей не страшно было в пустой квартире, он предложил привести своих стариков – отца с матерью – и всем троим жить до его возвращения.
Хитрый коммерсант успокаивал слабо возражавшую Риву, что погрома, может быть, и не будет, что им взять с нищих? А он уже ей, Риве, по приезде подарит на платье.
Все трое в мучительной надежде прислушивались: авось проедут мимо, может, они ошиблись, может, те остановились не у их дома, может, это просто показалось. Но, как бы опровергая эти надежды, глухо ударили в дверь магазина.
Старый, с серебряной головой, с детски испуганными голубыми глазами Пейсах, стоявший у двери, ведущей в магазин, зашептал молитву. Он молился всемогущему Иегове со всей страстностью убежденного фанатика. Он просил его отвратить несчастие от дома сего, и стоявшая рядом с ним старуха не сразу разобрала за шепотом его молитвы шум приближающихся шагов.
Рива забилась в самую дальнюю комнату, за большой дубовый буфет.
Резкий, грубый удар в дверь отозвался судорожной дрожью в теле стариков.
– Открывай! – Удар резче первого, и брань озлобленных людей.
Но нет сил поднять руки и откинуть крючок. Снаружи часто забили прикладами. Дверь запрыгала на засовах и, сдаваясь, затрещала.
Дом наполнился вооруженными людьми, рыскавшими по углам. Дверь в магазине была вышиблена ударом приклада. Туда вошли, открыли засовы наружной двери.
Начался грабеж.
Когда подводы были нагружены доверху материей, обувью и прочей добычей, Саломыга отправился на квартиру Голуба и, уже возвращаясь в дом, услыхал дикий крик.
Паляныця, предоставив своим потрошить магазин, вошел в комнату. Обведя троих своими зеленоватыми рысьими глазами, сказал, обращаясь к старикам:
– Убирайтесь!
Ни отец, ни мать не трогались.
Паляныця шагнул вперед и медленно потянул из ножен саблю.
– Мама! – раздирающе крикнула дочь. Этот крик и услышал Саломыга.
Паляныця обернулся к подоспевшим товарищам и бросил коротко:
– Вышвырните их! – Он указал на стариков. И когда тех с силой вытолкнули за дверь, Паляныця сказал подошедшему Саломыге: – Ты постой здесь за дверью, а я с девочкой поговорю кое о чем.
Когда старик Пейсах кинулся на крик к двери, тяжелый удар в грудь отбросил его к стене. Старик задохнулся от боли, но тогда в Саломыгу волчицей вцепилась вечно тихая старая Тойба:
– Ой, пустите, что вы делаете?
Она рвалась к двери, и Саломыга не мог оторвать ее судорожно вцепившиеся в жупан старческие пальцы.
Опомнившийся Пейсах бросился к ней на помощь:
– Пустите, пустите!.. О, моя дочь!
Они вдвоем оттолкнули Саломыгу от двери. Он злобно рванул из-за пояса наган и ударил кованой рукояткой по седой голове старика. Пейсах молча упал.
А из комнаты рвался крик Ривы.
Когда выволокли на улицу обезумевшую Тойбу, улица огласилась нечеловеческими криками и мольбами о помощи.
Крики в доме прекратились.
Выйдя из комнаты, Паляныця, не глядя на Саломыгу, взявшегося уже за ручку двери, остановил его:
– Не ходи – задохлась: я ее немного подушкой прикрыл.
И, шагнув через труп Пейсаха, вступил в темную густую жижу.
– Неудачно как-то началось, – выдавил он, выйдя на улицу.
За ними молча следовали остальные, и от их ног на полу комнаты и на ступеньках оставались кровавые отпечатки.
А в городе уже шел разгром. Вспыхивали короткие волчьи схватки среди не поделивших добычу громил, кое-где взметывались выхваченные сабли. И почти всюду шел мордобой.
Из пивной выкатывали на мостовую дубовые десятиведерные бочки.
Потом ползли по домам.
Никто не оказывал сопротивления. Рыскали по комнатушкам, бегло шарили по углам и уходили навьюченные, оставив сзади взрыхленные груды тряпья и пуха распоротых подушек и перин. В первый день было лишь две жертвы: Рива и ее отец, но надвигавшаяся ночь несла с собой неотвратимую гибель.
К вечеру вся разношерстная шакалья стая перепилась досиня. Замутневшие от угара петлюровцы ждали ночи.
Темнота развязала руки. В черной темени легче раздавить человека: даже шакал и тот любит ночь, а ведь и он нападает только на обреченных.
Многим не забыть этих страшных двух ночей и трех дней. Сколько исковерканных, разорванных жизней, сколько юных голов, поседевших в эти кровавые часы, сколько пролито слез. И кто знает, были ли счастливее те, что остались жить с опустевшей душой, с нечеловеческой мукой о несмываемом позоре и издевательствах, с тоской, которую не передать, с тоской о невозвратно погибших близких. Безучастные ко всему, лежали по узким переулкам, судорожно запрокинув руки, юные девичьи тела – истерзанные, замученные, согнутые.
И только у самой речки, в домике кузнеца Наума шакалы, бросившиеся на его молодую жену Сарру, получили жестокий отпор. Атлет-кузнец, налитый силой двадцати четырех лет, со стальными мускулами молотобойца, не отдал своей подруги.
В жуткой короткой схватке в маленьком домике разлетелись, как гнилые арбузы, две петлюровские головы. Страшный в своем гневе обреченного, кузнец яростно защищал две жизни, и долго трещали сухие выстрелы у речки, куда сбегались почуявшие опасность голубовцы. Расстреляв все патроны, Наум последнюю пулю отдал Сарре, а сам бросился навстречу смерти со штыком наперевес. Он упал, подкошенный свинцовым градом на первой же ступеньке, придавив землю своим тяжелым телом.
На сытых лошадях появились в городке крепкие мужички из ближних деревень, нагружали подводы тем, что облюбовывали, и, сопровождаемые своими сынами и родственниками из голубовского отряда, спешили обернуться два-три раза в деревню и обратно.
Сережа Брузжак, укрывший с отцом в подвале и на чердаке половину типографских товарищей, возвращался через огород к себе во двор; он увидел бежавшего по шоссе человека.
Взмахивая руками, в длиннополом заплатанном сюртуке, без шапки, с помертвелым от ужаса лицом, задыхаясь, бежал старик еврей. Сзади, быстро нагоняя, изогнувшись для удара, летел на сером коне петлюровец. Слыша цокот лошади за спиной, старик поднял руки, как бы защищаясь. Сережа рванулся на дорогу, бросился к лошади, загородил собой старика:
– Не тронь, бандит, собака!
Не желая удерживать удара сабли, конник полоснул плашмя по юной белокурой головке.