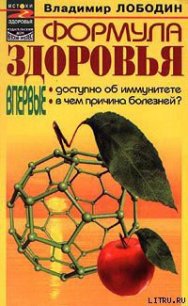Формула памяти - Никольский Борис (бесплатные серии книг .TXT, .FB2) 📗
Гурьянов засмеялся.
— Это было бы слишком самонадеянно даже со стороны такого самонадеянного человека, каким, наверно, сейчас кажусь вам я.
— Ну, а если все-таки серьезно?
— Если серьезно, то ваша наука еще не сказала своего главного слова. Ее время еще впереди, так мне кажется. Я даже убежден: оно уже близко, это время. Подлинное самопознание человека — его тайная тайных — психики, мозга, памяти — станет новой и, может быть, самой великой революцией в науке, вот во что я верю, вот почему я пришел к вам.
— Что ж, я думаю, вы нам подойдете, — сказал Архипов. — Более того, должен признаться, вы мне нравитесь. Мы исповедуем, оказывается, одну и ту же веру.
Так Глеб Гурьянов оказался в институте. И Архипов никогда не жалел, что поддался тогда первому своему впечатлению: Гурьянов действительно стал ценным сотрудником, талант инженера-физика сочетался в нем с глубоким интересом к молекулярной биологии.
— …Так рассказывайте, рассказывайте, — повторил Архипов.
— Да что рассказывать, Иван Дмитриевич, — тоном, в котором слышалось искреннее недоумение, отозвался Гурьянов. — Я уже все рассказывал Анатолию Борисовичу. Чепуха какая-то получилась. Я и сам не рад, что связался с газетчиками. Они же в этой нашей беседе в последний момент кое-что сократили, на свое усмотрение, кое-какие абзацы переставили, вот и не разберешь, где день сегодняшний, где день завтрашний… А я же, в основном, о будущем говорил, о наших возможностях, они же меня сами так просили…
— Снова у вас газетчики виноваты, — сказал Перфильев. — А вы вроде бы и ни при чем. Но ведь вы же, Глеб Михайлович, вы же им этот материал дали! Зачем вам понадобилось разводить рассуждения о воздействии на память, о возможности управления памятью и тому подобном? Зачем?
— А почему бы и нет? — сказал Гурьянов, живо обернувшись к Перфильеву. — Разве все это так уж нереально? Разве мы уже сегодня не должны думать об этом?
— Думать, может быть, и должны, но писать-то, писать-то в газете зачем? — устало сказал Перфильев. — Это же безответственность какая-то, мальчишество, других слов я подобрать не могу. Вы же хороший инженер, Гурьянов, вы умеете работать, на черта вам далась эта писанина? Только людей зря переполошили. Посмотрите, что теперь делается: пишут нам и пишут. Народ-то у нас удивительно легковерный на всякие научные чудеса. От науки только чудес и ждут. Вы и представить себе не можете, Иван Дмитриевич, чего нам теперь только не пишут, чего только от нас не требуют!..
— А что, действительно много писем? — с неожиданным интересом спросил Архипов.
— Много не много, но, я бы сказал, вполне достаточно. И становится все больше. Маргарита Федоровна едва регистрировать успевает…
— Что ж, может быть, тогда мы, все вместе, сейчас их и послушаем, а? — вдруг предложил Архипов. — Может быть, тогда и вся картина нам яснее станет?..
— Да зачем время терять, Иван Дмитриевич? — сказал Перфильев. — Я вас уверяю…
— И все-таки я прошу вас, Анатолий Борисович, сделайте милость, скажите Маргарите Федоровне, чтобы она зашла сюда с этими письмами…
— Пожалуйста, как вам будет угодно, Иван Дмитриевич, — Перфильев едва заметно пожал плечами. — Я не возражаю…
Маргарита Федоровна вплыла в кабинет сразу же, словно только и ждала, когда ее позовут, словно заранее знала, что не обойдется без ее участия это импровизированное совещание.
— Маргарита Федоровна, милая, будьте добры, — сказал Архипов, — если вас не затруднит, прочтите нам кое-что из поступивших писем, так, наугад или на свой выбор, а мы послушаем…
— Тут не сразу сообразишь, что и выбрать, — сказала Маргарита Федоровна. — Поверите ли, Иван Дмитриевич, есть такие, что у меня даже слезы выступают, когда читаю, хотя я, как вы знаете, человек отнюдь не сентиментальный. А есть такие, что просто диву даешься — и как это люди с подобной белибердой обращаться в солидный институт решаются…
— А вы почитайте, Маргарита Федоровна, почитайте…
— Ну ладно. Я тогда те, которые посвежее, которые на днях пришли. Ну вот, например:
— «В Институт памяти. От участника Великой Отечественной войны, инвалида второй группы, Короткова Ивана Алексеевича, беспартийного, 1919 года рождения.
В связи с черепным ранением, полученным на фронте в боях под Сталинградом, о чем имею документальное подтверждение, я, Коротков Иван Алексеевич, страдаю расстройством памяти, что делает мою жизнь до крайности тяжелой. Прошу записать меня на прием к директору института тов. Архипову И. Д. В просьбе прошу не отказать, потому как другого пути у меня нет, куда я ни обращался, нигде врачи помочь мне не смогли. Коротков Иван Алексеевич».
Маргарита Федоровна отложила листок. Все молчали. Она вопросительно взглянула на Архипова.
— Читайте, — сказал он. — Читайте еще.
— «Уважаемые товарищи!
Я бы никогда не набралась смелости к вам обратиться, если бы речь не шла о человеке, который мне очень дорог, которого я любила и люблю и который в настоящее время погибает. Я пишу о своем муже. Я знаю: в душе он очень хороший человек, честный и чистый, но его губит водка. То есть губит, конечно, уже не то слово, она уже убила его, превратила в ничто. Мне горько так писать, страшно, но другого слова не подберу.
Я уже совсем решила оставить его — зачем я ему, если я не в силах избавить его от самого большого ужаса его жизни — от пьянства?.. Да, да, я знаю, что для него это тоже ужас, я вижу, как он бьется и страдает, пытаясь избавиться от этого ужаса, и не может…»
— Какое же отношение вся эта исповедь имеет к нам? — сказал Перфильев.
— Слушайте дальше, — холодно перебила его Маргарита Федоровна. В присутствии Архипова она не признавала никаких других авторитетов, кроме Ивана Дмитриевича.
— «…Он уже дважды пытался лечиться, но не помогло, только еще страшнее стало — от безысходности. Теперь он опять в больнице.
И вот я совсем было решила бросить его, отказаться. И все-таки пошла, последний раз пошла в больницу взглянуть на него. Они как раз были на прогулке. И когда я увидела его в сером больничном халате, из-под которого выглядывали худые ноги в белых подштанниках, когда увидела, как однообразными, повторяющимися кругами ходит он по маленькому внутреннему, огороженному со всех сторон больничному дворику — в большой сад при больнице их никого, естественно, не выпускают, — сердце мое дрогнуло от любви и жалости к этому человеку. Что ни говорите, а почти вся моя жизнь прошла рядом с ним. И чем больше он причинял мне боли, страданий, тяжких минут, тем ярче, резче, я бы сказала, невыносимее становились воспоминания о самых первых днях нашей любви. Но я отвлеклась. Итак, я увидела его в этом дворике и не выдержала, я пришла к нему на свидание. Я не берусь описать, как он был взволнован, потрясен, когда увидел меня. Мы сидели рядом с ним в больничном коридоре на длинной, словно бы вокзальной, деревянной скамье, и он целовал мне руки и плакал. А потом — это было самое страшное — он взглянул вдруг на меня и сказал: «Знаешь… я ведь забыл, как тебя зовут… вот пытаюсь все вспомнить… пытаюсь… и не могу…»
— Достукался товарищ, — сказал Перфильев.
— Я могу и не читать, Анатолий Борисович, — сказала Маргарита Федоровна обиженно, потому что в чтение она старалась вложить все свои чувства.
— Простите, Маргарита Федоровна, не обращайте на меня внимания. И, ради бога, продолжайте. Все это очень увлекательно.
Маргарита Федоровна выдержала паузу и стала читать дальше:
— «…У него и раньше бывали провалы памяти, а теперь, боюсь, это уже непоправимо. И вот позавчера одна знакомая дала мне вырезку из газеты — там про ваш институт написано, и я решила обратиться к вам. Поверьте, это моя последняя надежда. Я ведь вот о чем думаю, вот отчего за это письмо взялась: если бы была возможность, если бы действительно можно было сделать такое чудо, чтобы оживить в его памяти картины нашей прежней жизни, как бы вернуть их ему, з а с т а в и т ь в с п о м н и т ь все, что он сам растоптал, уничтожил, я верю: все бы изменилось. Какое это было бы счастье, если бы вы согласились помочь мне! Теперь буду каждый день бегать к почтовому ящику — ждать вашего ответа. Тот, у кого на глазах погибал любимый человек, поймет меня».