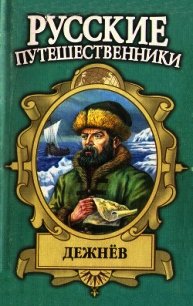Киевские ночи (Роман, повести, рассказы) - Журахович Семен Михайлович (читаем книги .TXT) 📗
Кто-то легко коснулся ее плеча. Женя резко повернула голову. Почти рядом, на полшага сзади, увидела седоголового мужчину с длинным худым лицом, на котором скорбно светились мученические глаза.
— Не надо так, — сказал он. — Будьте мужественны.
— Зачем, зачем? — простонала Женя.
— Надо жить, надо очистить землю от этих вампиров. Ведь вы молоды…
Этот голос, это лицо не успокаивали, — они вливали силы. Женя почувствовала себя лучше, дрожь прекратилась, но тяжелую голову клонило к земле.
— Смотрите туда, — сказал старик, — смотрите и запоминайте…
— Вы учитель? — почему-то спросила Женя.
— Да, — кивнул он головой, — я преподаю немецкий язык. Я рассказывал детям о Гёте и Шиллере, о Гейне… А вот эти черные души пришли к нам убивать.
Широко раскрытыми глазами он смотрел на бесконечное шествие. Шли с малыми детьми работницы-текстильщицы, шли с семьями старики сапожники и пекари с Подола, шли учителя, служащие, домашние хозяйки, шли школьники, старушки. Две женщины везли в повозочке седобородого деда с лицом библейского пророка, с исступленными глазами. Он подымал слабую руку, белые губы шевелились — и не понять было, то ли благословлял он живых и мертвых, то ли проклинал постылый мир, где звери могут стать властителями жизни.
Отчаянный вопль вонзился Жене в сердце:
— Ваня, любимый мой! Уходи, уходи отсюда!..
Смуглая молодая женщина отталкивала высокого однорукого мужчину, который держал ее ладонь в своей и что-то говорил, должно быть успокаивал. Лицо у него было бледное, но исполненное решимости, глаза с такой любовью смотрели на женщину, что та, забыв обо всем, просветлела.
— Ваня, родной мой, уходи…
Мужчина упрямо мотнул головой, обнял ее за плечи и громко сказал:
— Я тебя не оставлю.
Горячие руки взметнулись, обвились вокруг его шеи. Они застыли, прильнув друг к другу. Потом пошли, ни на миг не отрывая друг от друга взгляда, и во взгляде этом было все, чем красен мир: нежность, правда, преданность до последнего вздоха; все, что должно было через несколько минут погаснуть навсегда.
Кто он, этот однорукий Ваня? Может быть, он потерял руку в первых боях на границе? А может быть, на Халхин-Голе или в Испании, на полях Гренады? Сквозь какие смертельные схватки прошел он, чтоб оказаться здесь в этот проклятый день? И как он ее любит!
«Саша, Саша, — беззвучно плакала Женя, — я тебя нашла, я не могу погибнуть… Мама, прости меня, что я не пошла с тобой, прости».
— Посмотрите на офицера! — услышала она голос старого учителя. — Посмотрите — в руках стек. Чистокровный пруссак!.. Орден на ленточке. Это, верно, и есть рыцарский крест. Рыцарь…
Женя проследила за острым, ненавидящим взглядом учителя и увидела офицера с крестом на груди. Нет, у него не раздувались ноздри. Его лицо — тонкое, холеное — было равнодушно. Он смотрел и постукивал стеком по блестящему голенищу. Потом вынул портсигар, закурил. Сделал несколько шагов, повернул обратно. Он механически двигался взад-вперед, винтик бездушной машины, которая давила, умерщвляла, проглатывала людей.
Женя опустила голову. Не видеть, ничего не видеть. Ее мучила жажда, во рту пересохло, царапало в горле. Хоть бы глоток воды, один глоток! Что он говорит, этот старик, зачем говорит, когда надо или кричать, или окаменеть.
— Надо, надо смотреть. Мы расскажем, что тут произошло. Весь мир содрогнется, когда услышит. И сюда придут люди, и склонят головы, и посадят цветы да плакучие ивы. Смотрите…
— Я вас прошу, не надо, — простонала Женя.
Уже смеркалось, когда человеческий поток иссяк. Затих треск выстрелов, и от этой тишины Женя пришла в себя: «Что такое?»
К людям, сидевшим на холмике, — их собралось несколько десятков — подъехала машина. Из нее вышел долговязый офицер с неподвижным белесым лицом. «Как раздавленная вошь», — успела подумать Женя. К офицеру подскочил галичанин в немецкой форме и что-то сказал, показывая на Женю и других, замерших под холодным взглядом долговязого. Офицер произнес что-то резко, громко. Потом бросил еще одну короткую фразу, еще одну…
Учитель прошептал на ухо:
— Он говорит, что нас нельзя отпускать… Потому что в городе узнают и завтра начнут прятаться… Еще многие не пришли.
«Арестуют», — обожгло Женю новой тревогой.
Она увидела, как старый учитель встал и обратился к офицеру по-немецки:
— Я протестую против насилия. Вы не имеете права задерживать нас.

На неподвижном лице офицера шевельнулись желтые брови.
— Вы немец? — спросил он.
— Нет, я украинец.
— Как вы тут очутились?
— Я провожал своих коллег. — В голосе учителя зазвучал вызов. — Все думали, что людей вывезут, а тут произошла чудовищная бойня.
— Вы хорошо владеете немецким языком, — сказал офицер. — Вы поедете со мной в комендатуру. Нам нужны переводчики. — Обернувшись к солдатам, он бросил: — Выполняйте приказ.
— Я никуда не поеду, — резко отрубил учитель. — Я не буду служить убийцам.

Долговязый смерил его с головы до ног пустым взглядом и сел в машину, которая тут же двинулась.
Немцы и полицаи окружили холмик полукругом. Раздался окрик:
— Чего стоите? А ну… — послышалась брань.
Женя глянула на штатского с повязкой на руке, ее поразил хищный оскал большого рта с блестящими длинными зубами. Ока пошла вместе со всеми, но через несколько шагов остановилась так внезапно, что даже качнулась вперед. «Куда же нас ведут? Ведь это же туда?..» Сердце забилось громко-громко. Как бы в подтверждение страшной догадки, она почувствовала удар в спину.
— А ну, побыстрее… — Гнусная брань толкнула ее сильней удара.
«Лучше бы мне погибнуть сразу… Вместе с мамой. Зачем же я мучилась? Зачем?.. А как же Саша? Как же я его оставлю? И он не будет знать, что со мной».
Взгорок обрывался и падал крутой стеной вниз. Они подошли к краю, и Женя заставила себя взглянуть туда, куда уходили рыжие глинистые откосы. Там белели голые тела. Она зажмурилась, глотнула воздуха, чтобы преодолеть спазм в горле; голова закружилась, ей показалось на миг, что она уже летит в яму. «Я не разденусь, — успела подумать, — пускай стреляют… Как же я умру? А Саша?..»
Их уже не заставили раздеваться. Вечерело. Немцы торопились.
— Становись, становись по одному! — кричал тот же полицай с оскаленными зубами.
— Проклятье вам, убийцы! — негромко сказал по-немецки учитель, потом обратился к штатским: — И вы, продажные души, будьте, презренные, трижды прокляты…
Наступила тишина. Женя вся напряглась — сейчас, вот сейчас… И вдруг, круто рванувшись, прыгнула в пропасть. В тот же миг, а может быть, лишь чуть позднее прозвучали выстрелы. Ей показалось, что она падает долго-долго. Она не сильно ударилась, но что-то липкое, теплое плеснуло ей в лицо, ослепило. «Кровь!» — ужаснулась Женя и потеряла сознание.
Но через несколько минут она шевельнулась, вытерла лицо ладонью. «Кровь, кровь…» — стучало в виски. Сверху доносились одиночные выстрелы. Женя глянула туда и замерла. Немцы и полицаи светили фонариками и стреляли вниз. Женя слышала поблизости хриплое дыхание, стоны. Некоторые, видно, шевелились, и по ним стреляли.
В вечерней тишине одиночные выстрелы грохотали оглушительно, глубокий яр отзывался на них протяжным эхом.
Потом сверху стали бросать лопатами песок. Женя лежала навзничь, слышала, как падают и рассыпаются комья песка. Сыпануло ей на ноги, потом в лицо. Но она не в силах была шевельнуться. «Меня закапывают, закапывают!»— немо крикнула она, прежде чем снова погрузиться во мрак.
Злой, голодный, терзаемый сомнениями и неизвестностью, Олекса Зубарь блуждал по улицам и переулкам, то избегая людей, то приставая к прохожим с настойчивыми расспросами. Никто ничего не знал. И все знали всё. Десятки слухов, догадок и предположений, переходивших из уст в уста, вероятных и невероятных, страшных и успокоительных, наивно-легкомысленных и цинично-жестоких, совсем сбили его с толку. Смотрел на людей, которые шли по приказу в сторону Лукьяновки, и сердце у него сжималось от боли. «Марьяна, — шептал он, — Марьяна, я люблю тебя».