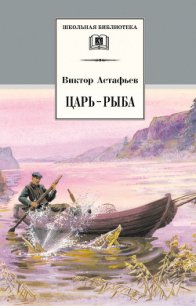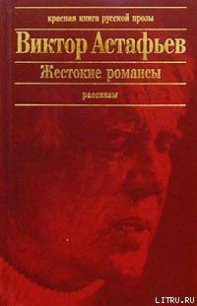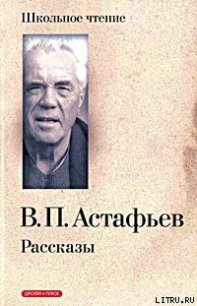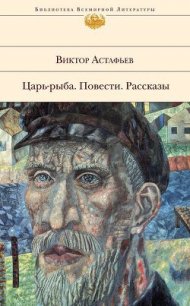Так хочется жить - Астафьев Виктор Петрович (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Так Коляша Хахалин сотворил на фронте свое самое полезное дело, за которое медаль ему не дали, но и не ругали. Командир дивизиона, начальник штаба дивизиона, майор Фефелов и прочее начальство делали вид, будто ничего особенного на свете и в их части не произошло. А раз так, то и Коляша делал вид, что ничего особенного не произошло. И думал с облегчением, что было это в последний раз, когда он сел за руль. Да и Пеклеван Тихонов, как всегда к разу и к месту, товарищеское внушение ему сделал: «Не вздумай на ворованной-то машине ишшо кататься — это, как у конокрада, либо на голову аркан, либо в острог запрут».
Сказано уже — нет клятвы крепче, чем в огне и на воде. Но все же пришлось Коляше сесть за руль. Еще раз. Зато уж воистину в последний раз!
Но прежде, чем это случится, Коляша Хахалин сотворит еще один боевой поступок. Там же, под Бердичевом — вот ведь какой памятный город оказался! Сотни городов с войском прошел Коляша, тыщи деревень, Бердичеву же выпало быть большим и очень серьезным перевалом в его жизни. Позднее он узнает, что в Бердичеве венчался французский писатель Бальзак, и нисколько не удивится тому и дознаваться не станет, как это занесло туда француза. Бердичев в понимании Коляши Хахалина еще тот город, в нем могут и должны постоянно происходить всяческие чудеса.
Именно там, в Бердичеве, молодой человек, угнетаемый, как и все здоровые молодые парни, мужской плотью, принял боевое крещение, произведен был в мужики.
Батареи были поставлены на окраине города, и наблюдательный пункт вынесен в хуторок, за сады, на опушку пригородного дубового леса. Хороший, богатый хуторок, совсем почти не разбитый, но какой-то весь раздетый, неуютный — без оград, без ворот, почти без надворных построек, вроде как селились тут люди случайно и ненадолго. Хаты, как бы нечаянно забредшие иль с неба набросанные по опушке леса, хотя и беленые, но серые и сырые. Вояки узнали, что хутор этот и в самом деле случайный и недавний. Возвели его какие-то и откуда-то выселенцы перед войной. Опасный для родины народ — выселенцы. Однако небрезгливые власти мужиков все равно подмели, отступления и наступления их смыли в военные ямы.
Командир дивизиона, начальник штаба, вычислитель и прочие нужные делу чины заняли просторную хату безо всяких перегородок и затей. Внутреннюю архитектуру хаты осуществляла основательно сложенная, на чалдона-сибиряка ликом похожая, насупленная русская речь.
В хате обитали мать Антонина — женщина дебелая, в разговоре степенная, и две дочери — Светлана и Элла.
Светлана пошла в мать — пышнотелая, с косой цвета овсяной соломы, спускающейся до заднего места, по земле ступает из милости, травки-муравки едва касается. Словом, была она из тех, про кого говорят: прежде, чем сказать, — подумает, прежде, чем ступить, — осмотрится. Пава, одним словом. Над ее кроватью гвоздями приколоченные, тушью, от руки рисованные на ватмане висели два портрета — Пушкина и Белинского. Товарищи командиры зауважали Светлану и выражаться при ней воздерживались. Желая угодить девушке и обратить на себя внимание, командир дивизиона зыкнул, чтоб военные курить выходили вон. И этот жест даром не пропал: пошел командир умываться — Светлана ему поливала, холщовый рушник, петухами вышитый, подала.
Другая дивчина, видать, в отца удалась. Платьишко на ней еще с накладным воротничком и карманами, с тремя складочками на юбке. Заношенное платьишко, давно не стиранное, точнее, стиранное, но без мыла, в щелоке и оттого несвежо выглядевшее. Зато сама Элла, чернявенькая, с остренькими локтями, сияя смородиновыми глазами, хотела всех и обо всем расспросить, все и обо всем рассказать. Смуглое лицо ее разгорелось, губы безо всякой причины улыбались. Она летала по просторной избе, что грач или черный дрозд, то и дело ударяясь о печку, чего-то роняла с грохотом и разбила какую-то посудину, редкую в этом бедном доме, и мать, качая головой, давала понять постояльцам, что вихрь этот не остановить, не унять даже военной силой. Угадывая желания постояльцев, Элла по своей воле и охоте помчалась в сад, принесла в подоле яблоки и груши, ухнула фрукты на стол, прямо на карты и штабные бумаги. Заметив, что телефонист привязан к месту проводами, ему в пригоршни вальнула абрикосов, поверх алое яблоко и грушу вляпала.
«Подол-то», — напомнила мать и, настигнув дочь, сама одернула на ней платьишко. Коляшу, а он в ту пору дежурил у телефона, эта чернявая птаха сразила наповал сразу, он почувствовал себя разлаженно, слабо, все в нем сместилось куда-то, в жаркое место. Сжимая в горсти грушу и яблоко, Коляша ловил и не мог поймать захмелелым взглядом это порхающее по избе существо, начал путаться на телефоне.
— Да что с тобой сегодня? — уставился на него начальник штаба дивизиона и, увидев мутный взор телефониста, сместившийся в беспамятство, решил, что это от постоянного недосыпания и, раз обстановка позволяет, надо телефониста подменить и дать ему отдохнуть. Да если бы Коляша мог бросить этот проклятый телефон, он сам, не спросясь, бегал бы за девушкой щенком возле избы, тявкал и зубами хватался за подол, забыв про войну.
Мать Антонина предложила товарищам охвицерам сготовить обед, если у них есть продукты; от себя же она могла добавить к обеду яишницу. Товарищи охвицеры благосклонно согласились с этим предложением, отделили продукты от сухого пайка в распоряжение хозяйки.
Заполошно бросив: «Пойдем!» — Элла схватила освободившегося телефониста за руку и умчала за собой во двор, со двора, в котором стояла корова, по лестнице — наверх, на сеновал. В дощаном щелястом сеновале пахло свежим сеном и яблоками. В глуби сарая, у дальней стены серела кучка прошлогоднего сена. На нем была раскинута нехитрая постель — стеженое старое одеяло вместо матраца, в головах половичок, на него брошена смятая подушка и что-то скомканное, наподобие покрывальца. «Тут она спала! — догадался Коляша, — совсем недавно». У него занялся дух. Элла порхала по сеновалу, собирая яйца снова в подол платьица, оголив серо-голубые трусики с белыми пуговками на боку. Вдруг девушка остановилась перед Коляшей, уперлась в него: «Ты чего?» Господа охвицеры деликатно отворачивались, когда она вот так-то, с фруктами и яблоками, задрав подол, одаривала их плодами. Коляше она зачем-то сунула в руки теплое яйцо. Он стоял посреди сеновала, держа куриное яйцо в ладонях, и не отрывал взгляда от Эллы. Он и губами-то пошевелить не мог, а вот яйцо раздавил, и оно потекло на ботинки. Держа одной рукой подол с яйцами, другой рукой Элла принялась клочком сена очищать солдатский ботинок, торопливо, с захлебом рассказывая, что приехали они сюда с Урала и сначала ей тут не нравилось, но, как вырос и начал цвести сад, — понравилось, и вдруг тоже поняла — он ее не слышит, то есть слышать-то слова слышит, но смысла их не понимает.
— Бедный ты мой! Ты ж на войне… — погладила она его свободной рукой по щеке и приказала немедленно лечь в постель и спать. — Потом… потом, все потом. Я тебе нравлюсь, да? — уже с лестницы высунула она голову. Глазищи у нее ясно и возбужденно сверкали.
«Вот она, погибель-то какая бывает», — обреченно подумал Коляша и закивал головой — да-да!
— Я приду к тебе! — шепнула или крикнула Элла.
Коляша решил, что все это ему метится, женский это товарный обман, и только — о нем он так много слышал и читал.
Усталость, давняя, фронтовая, все сминающая усталость, и событие, встреча эта, молнией его опалившая, — обессилили парня, и только он коснулся подушки, будто в обморок провалился иль в яму бездонную угодил.
Ночь была уже, сочился лунный свет в щели сарая, когда Коляша проснулся от осторожного к нему прикосновения. Кто-то лежал рядом, гладил его по щеке, касался губами уха.
— Хороший ты мой! Солдатик мой молоденький, желанненький… Я тебе нравлюсь? И ты мне тоже… И ты мне… — шелестело рядом.
Коляша, не шевелясь, внимал голосу небесному. И от голоса одного и ласкового к нему прикосновения истек в белье и, если б дальше ничего не было, он все равно считал бы, что мгновения эти в его жизни — самые волнительные, самые счастливые. Но девушка, скользя губами по лицу, нашла его губы и впилась в них. Коляша плотно-плотно сжал рот.