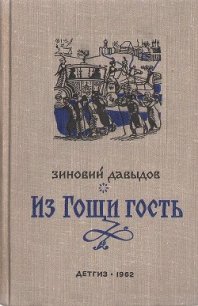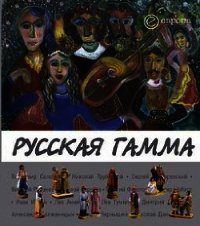Русская служба и другие истории (Сборник) - Зиник Зиновий Ефимович (читать книги без .TXT) 📗
«Опять вы, Иерарх, начинаете разводить колеса на турусах, когда дело идет о типично советских штучках. Голос был с акцентом?»— вмешалась Циля Хароновна Бляфер. И Наратор подтвердил, что да, голос был с акцентом, может, и с албанским, может, и русским, а наверное, и с бангладешским, в общем, с английским акцентом голос был, поскольку говорил не по-русски: Наратор ведь в акцентах не разбирается, а только в ударениях русского языка. Чем больше говорил все это Наратор, тем больше хмурилась Циля Хароновна, все глубже куталась в оренбургский платок и бормотала: «Все та же увертюра!»
«Те же самые штучки проделывали и с несчастным албанцем», — говорила она, качая головой, как талмудист, догадавшийся до хитроумного библейского комментария. Одно к одному, через инфильтрацию Иновещания подготовили увольнение единственного борца за права чистоты русской речи (албанец тоже был знаток албанского), параллельно шантаж под видом нахальных соседей и угрозы по телефону, и дело тут не в пакистанцах, а в попытке советских органов обескровить Европу и избавиться от присутствия русских эмигрантов третьей волны как единственных осведомителей Запада о нынешних делишках советской власти и лапы Москвы за рубежом, сослать нас всех в Бангладеш, вот что им нужно, или проколоть, как редких ценных бабочек, отравленными зонтиками. Еще неизвестно, через какие руки пройдет этот подарочный зонтик Наратора, подозрительным образом попавший в Москву. И неясно, какими отравленными капсулами этот зонт зарядят кремлевские мудрецы, а потом, насадив на этот зонт очередного инаугуранта, дефектора, подбросят Наратору через соседей этот самый зонт, и ходи потом оправдывайся, что твой зонт до убийства успел побывать в руках Москвы: «Куда, кстати, делся подсунутый вам взамен фальшивый зонтик, этот самый „ахматовский“, как вы его изволили называть?» — ухватилась за будущую улику не осуществленного еще преступления Циля Хароновна. Если Наратор и не слишком следил за железной логикой госпожи Бляфер, то уж непривычную концентрацию внимания на собственной персоне он (привыкший проборматывать собственную жизнь про себя как некое даже не слово, а анонимный звук) переживал так, как будто этот самый звук, монотонно хрипевший под сурдинку глушилки, вдруг выбрался чудом на соседнюю волну и забил в уши всеми репродукторами. Он знал, что за ним следят, что его ищут в грохоте и хрипе эфира и вот наконец нашли, и теперь на нем лежит миссия изложить устно, а может и письменно, всю немоту и мотню унижения, неизвестно откуда ниспосланного, от сиротства ночей суворовского училища до затурканного в эфире неправильного ударения, в которое превратилась его нынешняя жизнь. И от того, что его наконец спрашивали напрямик, что же, собственно, с ним происходит, впервые за его сорокалетнюю жизнь до него докатилась, как затерявшееся эхо, простая и печальная мысль, что, если ты не заговоришь сам, тебя никто не услышит: не скажешь — не услышат, не просто ли?! И он заметался на стуле в своем матросском бушлате, как в панцире, и захотел подтвердить лестную угрозу — веру в эти вихри враждебные, реющие над его головой, приподымавшие его над этим стулом, городом и, может быть, страной; потому что угроза шла извне, откуда-то из страны четырех букв, где в неведомом тереме, забытом Кремле, враги народа, то есть его, Наратора, точили зонтики зубами и наполняли памятный ему подарок сослуживцев смертельным ядом из страшного дерева анчар, растущего посреди Красной площади, забытой им и потому более зловещей. Он вскочил со стула и тут же обнаружил, что, хотя в душе у него бушевал ураган чувств, сказать он мог только: «Обокрали, инаугуранты!» И, невольно вторя Циле Бляфер как единственной и первой, одолжившей ему слова напрокат, Наратор стал ругать Джона Рида, который, по всему видно, агент Кремля, собрал толпу, чтобы на нас, дефекторах и невозвращенцах, тренировать англичан для будущей революции, и недаром выгнал Наратора с роли знаменосца: если бы отдали ему это знамя, он, Наратор, может быть, махая этим знаменем борьбы всех народов, развеял бы дурман провокационной демагогии и манипулирования цифрами вместо слов человеческих в устах вождей революции; но этот самый Джон Рид через своих подручных выкрал у Наратора единственное доказательство его реабилитации в борьбе с непогодами жизни — розовый зонтик со словами «Мне голос был» некой Ахматовой: этот зонтик был распиской, что юбилейный зонтик обернется ядовитым концом в Лондоне, какой «жирант» представит он ихней, то есть тутошней разведке, что зонт был в советской командировке, как правильно указала товарищ, извиняюсь, госпожа Циля Хароновна. И в этом заговоре все та же рука Москвы была в бочку затычкой, та самая рука, которая списывала собственные преступления на мертвые души, а теперь подписывает приказы о глушении «голосов»; та самая рука, что лишила его отца роли знаменосца, когда революция пошла другим путем, а отец в могилу.
«Ваш отец по какому процессу проходил?»— деловито осведомилась Циля Хароновна, как родственник с родственником.
«Мой отец участвовал в процессе ликвидации безграмотности, — гордо сообщил Наратор. — Создавал ликбезы от наркомпроса для искоренения ятей на местах», — и почуял, что сказал не то, потому что увидел на себе остекленевший взгляд старых эмигрантов.
«Ликбез! От наркомпроса? Яти искоренял? — забормотал доктор, нервно расхаживая по комнате, потом повернулся к Циле Хароновне — И после этого вы мне будете говорить!»— и плюхнулся в кресло хозяйки дома. Очередь расхаживать перешла к Циле Хароновне. Она оправилась от известий о семейных связях Наратора со станом заклятых врагов так же быстро, как и от обморока при виде его матросской бескозырки.
«А вы что предполагали? — перешла она из растерянности в атаку. — Что он окажется плодом брака боярыни Морозовой с мистиком Гурджиевым?» Как раз то, что отец Наратора был отъявленным революционером и комиссаром, отравленным идеей искоренения ятей и ижиц во имя процветания советской фени, подспудно двигало Наратором, утверждала Циля, в его орфографическом и ударном рвении. Как ни старались вожди революции и их сподручные искоренить любовь к Богу и правописанию, занимаясь распространением «образованщины», еще не выродились окончательно герои русской исконной орфографии, и не в первом, так во втором поколении недалек тот час, когда попранная грамматика будет восстановлена. Может быть, ему, Наратору, не под силу возродить яти и ижицы, но он делает все от него зависящее, чтобы по крайней мере здесь, в рамках языковой изоляции, среди враждебного языкового окружения, охранять и лелеять вишневый сад, уцелевший на пепелище советских речевых норм. «Сыновья отвечают за грехи отцов, — декларировала Циля Хароновна. — И в этом деле самоочищения сыновья объединяются против отцов с дедами», — то есть, говорила Циля Хароновна, с ними, с ней самой и Иерархом Лидиным, между прочим, как носителями традиций, подорванных большевиками. Но доктор Лидин сказал, что он больше об этих ятях и ижицах слушать не желает, что пусть могучий русский язык разбирается в своих корнях сам, а он, за годы тягостных раздумий о судьбах своей родины, давно стал писать по-английски, где никаких кровавых революций по отмене артикля «тхе» не происходило, и это его вполне устраивает. Циля Хароновна в ответ издала иронический смешок и сказала, что, конечно же, Лидин как всегда прячется в свой английский, как «кенгуру головой в песок», когда речь идет о принятии решительных практических шагов для предотвращения гибели соотечественника. «Ясно как полдень», говорила Циля Хароновна, «что чекисты точат зонтик на Наратора», поскольку Наратор для них, через своего отца, есть подрыв изнутри, и проходит все по тому же делу ликбеза и наркомпроса, с которыми они давно расправились, поскольку раб сделал свое дело. А тут Наратор, «у кормила голоса, который слушают миллионы», бередит старые раны, в молчаливом подвиге пытается реабилитировать попранные его отцом нормы обращения с русским языком, и, конечно же, его надо устранить: довести до умопомешательства подосланными соседями и угрозами по телефону, чтобы его упрятали в психушку, или же, подстроив увольнение через подставных людей, прикончить в темной аллее тем же, украденным у него самого, отравленным зонтом.