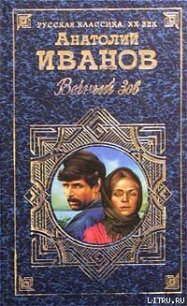Вечный зов. Том II - Иванов Анатолий Степанович (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
— Что такое? — спросил он обеспокоенно ещё на ходу. — Что случилось?
— Да вот, разговариваем, — ответил Иван. — Ничего, так это… Устала она.
— Я ж приказал — спать.
— Я и то ей говорю…
— Иди спать, Оля.
— Я сейчас, Яков Николаевич, — сказала она, завязывая платок.
— Отведи её, Иван Силантьевич, в палатку, — распорядился Алейников и пошёл.
Шагов через десять оглянулся, сделал Ивану жест в сторону облинявшей под дождём палатки, разбитой под тяжёлыми еловыми лапами, — веди, мол, чего сидите? — и ушёл куда-то вслед за партизанами.
— Пойдём. — Иван начал подниматься.
— Сейчас. Ты погоди, дядя Ваня. — Она положила ему руку на колено. — Это ничего, что я вас так называю?
— Да что ж… называй.
Олька привычным движением, которое Иван видал уже не раз, поправила платок на голове, поглядела в ту сторону, куда ушёл Алейников.
— «Спи». А сам когда будет спать? — проговорила девушка. Голос её был уже успокоенный. — Ночью сам хочет разведать все подступы к Шестокову. Этот, рыжий, его поведёт. Это Стёпка Метальников, шпион Бергера в этом отряде.
— Как это — шпион? — не понял Иван.
— Ну, они заслали его к Баландину. Вступи, мол, в партизаны, а нам всё докладывай. А он парень оказался честный… Ну, и порешили — время от времени он будет являться в ихнюю «Абвергруппу» со всякими ложными известиями. А уж у них что выведает — немедленно в отряд сведения, а отсюда Алейникову… Не раз Стёпка от верной гибели отряд спасал. Он да шестоковский староста Подкорытов.
— И староста… тоже?! — воскликнул Иван.
— А что так удивляешься? У нас тут кругом такие люди.
Вечер был тихим и душным, разопревшая под дневным солнцем еловая хвоя густо пропитала воздух пахучим смолистым настоем, настолько густо, что в нём вязли, казалось, комары — их было до удивления мало, и они, обессиленные и вялые, не могли высоко подниматься над землёй.
Олька долго сидела неподвижно, слушала бульканье ручья, протекавшего метрах в десяти по затравеневшей низинке.
— Вы что же, раз ты про меня знаешь… в одной части, что ли, с Семёном? — негромко спросила она.
— Да вот с самого начала вместе воюем… воевали.
Он почувствовал, как она, не меняя позы, вздрогнула при последнем слове. Даже не вздрогнула — просто качнулась еле заметно обмотанная платком голова, и лицо её медленно стало поворачиваться к нему. И когда повернулось, в глазах её он увидел безмолвный мучительный крик.
— Убит? — больше догадался по движению её губ, чем расслышал Иван.
И в несколько секунд он пережил множество странных, доселе незнакомых ему состояний. Что ей ответить, этой, видать по всему, доброй и славной девчушке, до костей обожжённой огнём и кровью, изнурённой страшным временем войны? Убит? Но он и сам этого не знает. Не убит? И в этом не уверен. Может, в таком случае сказать «убит»? Чтоб раз и навсегда знала она это, забыла о нём для собственного спокойствия, и если… если он, Сёмка, чудом всё же объявится на земле, для спокойствия его самого, его жены Наташки и родившейся у них дочки. В конце концов, кто ему эта Олька? Случайно встретились на жутких дорогах войны, что-то под влиянием минуты у них там произошло, ничего серьёзного, ничего такого, что имеет какое-то значение для обоих… Но не имеет ли? Вон как полыхают и горят её глаза. И, кроме того, это будет ложь, ложь. Одно слово — и жизнь этой живой души человечьей пойдёт, потечёт по какому-то другому пути. Вон крохотный и бессильный ручеёк, перегороди его, взрывом снаряда завалит если неглубокое русло, — вода накопится, потечёт в сторону куда-то, в неизвестность. А зачем лишать эту живую струйку определённой ей природой дороги? По другому пути… А кто имеет право взять за это ответственность? Никто, никому не положено…
— Убит?! — ещё раз продавил ему уши умоляющий хрип, смяв, смешав все его лихорадочные рассуждения и одновременно заставив его подумать об их ненужности.
— Не знаю, Ольга, — сказал Иван, прижимая к вискам ладони.
— Знаешь! Знаешь!! — дважды воскликнула она. И властно потребовала: — Рассказывай! Всё говори!
Иван ещё помолчал и стал рассказывать с подробностями обо всём, что произошло там, на высоте 162,4, как рассказывал недавно Алейникову. А девушка его ни разу не перебила, не задала ни одного вопроса.
Когда он кончил, зола под котелком была холодной, костерок давно угас, испепелив все угли, до последнего. И день почти угас, оставив над кромкой леса ещё светлое пока пространство, которое меркло. Стало прохладнее. Исчезли редкие комары, затихли голоса партизан, временами доносящиеся с поляны за ручьём. Всё кругом изменилось, лишь ручеёк так же, как и прежде, негромко побулькивал, и Олька, прислушиваясь к его говорку, неожиданно спросила:
— Правда, хорошо?
— Что?
— Ручеёк звенит…
Иван ей не ответил. Ему было обидно, что Олька не задала ни одного вопроса, ничего не переспросила. Зачем тогда требовала рассказать ей всё?
Она сидела всё так же недвижимо, смотрела безотрывно на потухший костёр.
— Мне рассказывали, что дядя Кондрат тогда за братом своим, попом, до самого конца гнался, обоймы четыре в него расстрелял из нагана, а тот всё увёртывался, пока в трясину не угодил. А ты, дядя Иван, за своим погонишься послезавтра?
— Ты… знаешь?! — вымолвил он.
— Алейников сейчас, — она кивнула на землянку, — сейчас при мне всех предупредил, чтобы брата твоего да начальника шестоковского гарнизона Лахновского живьём взять.
Иван думал, что о Фёдоре, кроме него да Алейникова, никто пока ничего не знает. Но, понимая, что рано или поздно это станет известным, морщился от предчувствия неизбежно приближающегося такого момента. И вот он наступил…
— Ну что ж… Оно и хорошо, — произнёс он, испытывая облегчение. — А погонюсь, не погонюсь — тебе что?
Она подняла на него глаза, совершенно мёртвые и холодные, как остывшая под котелком зола. Иван почему-то думал, что в них стоит по-прежнему невыносимая боль и страдание, а в них ничего не было.
— А я хочу, дядя Ваня, вместе с тобой… вместе со всеми туда.
— Не надо бы тебе… — невольно произнёс он.
Уголки её губ дрогнули и опустились вниз, она усмехнулась усмешкой, тяжёлой и страшной в какой-то своей жестокости.
— Ты, дядя Ваня, за меня не бойся. Я уже не живая. Давно… Алейников знает.
Иван смотрел на неё со всё нарастающей тревогой. А она ещё раз так же усмехнулась.
— Чего он знает? — вымолвил Иван.
— Я всё время вижу перед собой глаза мамы… День и ночь. День и ночь, — не обращая внимания на его слова, продолжала она. — Понятно? И всё время голос её во мне звучит: «Дочка, бросай! Бросай!..» И я бросила.
— Что? — спросил он. И, уже спросив, ощутил, как возникает в нём предчувствие, что он, прошедший в жизни все круги ада, испытавший всё мыслимое и немыслимое, узнает сейчас нечто такое, отчего остановится в жилах кровь.
— Гранату. В маму…
Иван, будто пытаясь вытрясти больной и невыносимый гул из головы, тряхнул ею.
— Ты что… говоришь?!
— Бросила… — повторила Олька, задохнулась, дёрнула шеей, проглотила тяжкий комок. — Они, трое немцев, насиловали её… на полу.
Кровь в жилах Ивана действительно остановилась, в груди похолодело, там, где было сердце, возникла и росла, росла чёрная пустота.
Не в силах ничего сказать, он стал медленно подниматься. И Олька, будто была с ним соединена чем-то, тоже начала подниматься одновременно.
А поднявшись, они некоторое время стояли недвижимо. Иван, ничего теперь даже и не понимая, не соображая, глядел на девушку мутными, невидящими глазами, а она, сложив руки под грудью, склонив голову немного набок, будто по-прежнему прислушивалась напряжённо к неумолчному плеску ручейка.
— Но это не самое страшное, её глаза, — донеслось до него. — А самое страшное в другом… Если бы мама не закричала, чтобы я… я всё равно бы бросила. Всё равно…
Голос её был тих, слаб, она говорила почти шёпотом. Но звон ручья, отчётливо печатающийся в сознании, совсем не заглушал его.