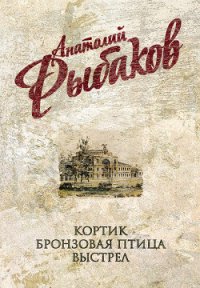Встань и иди - Нагибин Юрий Маркович (бесплатные версии книг .txt) 📗
От станции к городу вели длинные, километра в полтора, шаткие деревянные мостки, провисшие над ярко-зеленым болотом. Тюрьму мы отыскали сразу, она помещалась в старом монастыре, стоящем на поросшем молодой травой бугре. Вокруг тюрьмы, молчаливо признав ее своим центром, рассыпал город скучные деревянные домишки и приземистые бараки.
Зеленый вал от подножия до стен монастыря был усеян нашими товарищами по несчастью. Были среди них и печальные дамы в старомодных соломенных шляпках с линялыми цветочка-ми, и старые московские интеллигенты в брюках-дипломат и коротких коверкотовых пальто, и колхозники в лаптях, похожие на коровинских богомольцев. Всю эту разношерстную толпу объединяла молчаливая, покорная растерянность. Будут ли или не будут принимать передачи, никто не знал. Затем как-то вяло протек слух, что в пять часов начальство объявит свою волю.
Мы пошли бродить по городу. Мне довелось видеть много невеселых среднерусских городов, но ни один не производил такого безрадостного впечатления, как Егорьевск. Город старинный, но нет в нем ни уюта, ни приветливости старины, ни трогательности, ни мечтате-льности. Какой-то он весь голый, необжитой. Голы дома, даже не обнесенные палисадниками, голы лишенные деревьев пыльные улицы, гол, как лысина, скверик у кино с вытоптанным газоном и усохшими, потерявшими листву метелками кустиков. Мы долго мыкались по широким пустынным улицам, пока набрели наконец на маленький зеленый оазис, где билась свежая жизнь. То был двухэтажный особнячок в тени старых, пахучих лип. Здесь было людно, шумно и весело. На двери особняка висела металлическая дощечка с надписью: "Народный суд".
Мы вошли. Большой, нарядный зал с позолоченной люстрой был полон народа. Слушалось дело об алиментах.
Ответчик, молодой еще парень, с глупым, рябоватым, лошадиным лицом, в новом пиджаке и при галстуке - узел галстука чуть не подпирал ему подбородок,- держался с независимой мужской грацией.
- Ничего не знаю,- твердил он, шаря глазами по стенам и потолку.- Мы с ей чисто по-товарищески вращались.
Истица, худенькая, с испуганным желтым личиком, вела себя так неуверенно и робко, словно и сама не верила, что этот роскошный холуй в самом деле одарил ее своей близостью. Она не плакала, как-то тихо сочилась слезами. На вопрос судьихи: при каких обстоятельствах сделал ей ответчик ребенка, она чуть слышно проговорила:
- На мосту, где ж еще,- подняла голову и впервые улыбнулась.
Но самым любопытным на суде была не эта пара, а маленькая, черноглазая, худо одетая девчонка, по виду разнорабочая, принимавшая во всем происходящем необычайно живое участие. Она то и дело подавала реплики, подсказывала истице, перебивала ответчика и в конце концов вступила в спор с судьей. Спор завершился тем, что ее оштрафовали на двадцать пять рублей. Но она не угомонилась и после этого: не успел суд удалиться на совещание, как она громко крикнула жене ответчика, под стать ему рябоватой, крупной и тяжелой в кости молодайке:
- Ну, Маня, теперь тебе Колька не нужный. Четверть снимут - не гуляй зазря!
А затем, повернувшись к сидящей рядом со мной женщине:
- До чего ж я эти суды люблю!.. Поглядишь на чужую жизнь, вроде бы и сама пожила!..
Мы снова вышли на улицу. Больше в городе смотреть было нечего - тюрьма и суд, вот два места, где сосредоточивалась его жизнь. Мы поплелись назад к тюрьме. Зеленый обод вокруг высоких каменных стен был по-прежнему усеян людьми, большинство спало, кто лежа, кто сидя, но каждый и во сне придерживал рукой свою посылочку.
Я глядел на них и думал: что за странная условность согнала сюда со всех концов Московской области этих разных людей! Кто-то и зачем-то, словно ножом, рассек народное тело, объявив одну его часть виновной перед другой. Но и сидящие там, за каменной стеной, и томящиеся тут, под стенами, равно знают, что никакой вины нет. Знают это и те, что охраняют заключенных, и те, что арестовали их, и те, что обвиняли их в несовершенных преступлениях; знают это и те, что будут судить их и засудят, и те, что погонят их по этапу, и те, что с винтовкой в руках обхаживают колючую ограду лагерей. Знают все от мала до велика, от ребенка до старца, но, словно сговорившись, продолжают играть в эту зловещую игру.
Около шести вечера ворота тюрьмы приоткрылись, и грубый голос коменданта гаркнул:
- А ну, давай, что ли!..
Нас давили, толкали и мяли, и мы тоже давили, толкали и мяли, и все это почти в полном остервенелом молчании. Как и все, мы сдали свою передачу, затем, опустошенные, будто обманутые в чем-то, поплелись назад к станции.
Там, где мостки делают крутой поворот, перед нами, в широком распахе, открылся монастырь-тюрьма, облитый розовым закатом. И почему-то лишь сейчас, после целого дня, проведенного возле тюрьмы, я почувствовал вдруг, что там, за стенами, так близко и так недосягаемо, находится мой живой отец с его смугловатым, монгольским лицом, с его улыбкой, его словечками, его неумелыми маленькими руками, родной, бедный человек, которому я ничем, ничем, ничем не могу помочь.
Верно, и мама испытала сходное чувство, она старательно отворачивала лицо, но я видел, как морщилась ее щека. А затем было долгое ожидание поезда, и три огня, налетевшие из сгустившейся тьмы, и грубая толкотня посадки, и тьма, и духота вагона, и отчаянная усталость на выходе, когда, казалось, не станет сил добраться до дома. А потом было счастье, неслыхан-ное, небывалое, ошеломляющее. Дверь нам открыла Дашура, непривычно чистая, прибранная, с выбритой верхней губой, в новом фартуке, она молча распахнула дверь в мамину комнату, и нас ослепил стол, застланный белейшей, туго накрахмаленной скатертью, на столе среди всевозмож-ной снеди, от зернистой икры до шоколадных конфет, искрились бутылки дорогих вин. И раньше, чем мы успели осознать случившееся, из темной глубины комнаты в свет, в жизнь, в наши души ступил освобожденный из тюрьмы отчим. И, впервые поверив в Того, кому я так часто молился, я шагнул в отгороженный шкафом угол комнаты, где на стене висел фарфоровый умывальник, с силой ударил себя щепотью в лоб, проговорил: "Миленький боженька!.." - но, растеряв все слова, припал лбом к холодной глади умывальника и зарыдал.