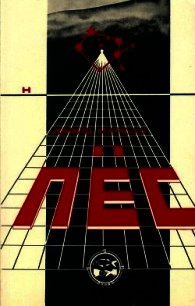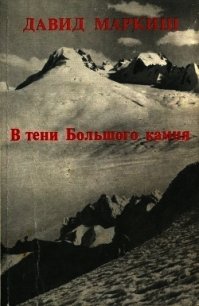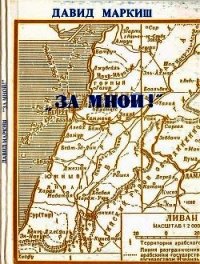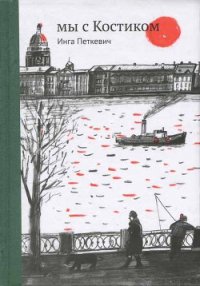Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (книги онлайн полные .txt) 📗
— Вот, все же, странно! — подойдя к Вадиму и наклонившись к его плечу, сказал Миша Гурарий. — Сидим в Вене, разговариваем о каких-то пастухах…
— Знаешь, мне тут не нравится, — сказал вдруг Вадим, с тоской наблюдая за тем, как Вера топит в чашках с кипятком заварочные пакетики. — Как в предбаннике: ни холодно, ни жарко.
— Да-а… — неопределенно протянул Миша. — А мы уже, вроде, начинаем привыкать… Ты куда хочешь — в Париж, в Штаты?
— Не знаю, — пожал плечами Вадим. — Мне, в общем-то, все равно. В Париж, наверно: там журналы, печататься можно.
— Прямо в Париж отсюда не пустят, — со знанием дела ознакомил Миша. — Только через Рим. Италию посмотришь: Флоренция, Венеция. И денег платить не надо — тебя везут, ты едешь.
— Липа! — строго поправил Сеня Повольский. — Это липа. И зря ты, Миша, эту липу людям рассказываешь… Во Флоренцию и Венецию поехать — пятьдесят долларов, а коммерческий рейс в Неаполь — двадцать долларов.
— Что это — коммерческий рейс в Неаполь? — брезгливо спросила Катя Мещеркина и серебряно блеснула в темном омуте кресла.
— Такой рейс… — не дал объяснения Сеня и взглянул на Катю Мещеркину озабоченно и немного раздраженно, как взглядывает неимущий и, быть может, даже несытый человек на розовую, в серебристой шкурке семгу в щедро освещенной витрине.
Катя выдержала этот взгляд с совершенным спокойствием, как если бы смотрел на нее не киевский зубной врач Сеня Повольский с Мексико-плац, а его немигающее изображение из песчаника или гипса.
Установилось тягостное, хотя и несколько напряженное молчание. Сидя в своем углу, Вадим Соловьев наблюдал за происходящим в гостиной словно бы из коридора, или из другой комнаты, или даже с улицы, через окно, никем незамеченный; им и не интересовался никто. Переводя легкий взгляд с серебристой Кати на озабоченного Сеню, с лупоглазого Гурария на Андрея Мещеркина, он остановился, наконец, на Мыше. Она сидела вдалеке от Захара, на другом конце комнаты, справа от Вадима. Она сидела как на сцене — в кругу света, падавшего из большого, накрытого то ли драным, то ли дырчатым платком абажура высокой напольной лампы с изогнутой шеей. Абажур свешивался с шеи, зеленая шелковая бахрома платка шевелилась. В кругу света Мыша уложила длинные плавные руки на колени и сидела совершенно неподвижно, глядя перед собой и чуть вниз. Взгляд ее приходился на боковину кресла с помещенной в нем серебристой Катей Мещеркиной, но не задерживался там, а проходил насквозь и упирался то ли в пол, то ли в угол двери, рядом с которой стоял, привалившись плечом к косяку, Захар Артемьев. Вадим с удовольствием глядел на Мышу — на ее прямые узкие плечи, на ее руки на высоких коленях. Сидя в тепле, в стороне от этих людей, занятых своими делами, Вадим ни о чем не желал думать: ни о Вене, ни о Риме, куда ему предстояло ехать по пути в Париж, ни даже о Мыше, на которую он смотрел с удовольствием.
— Не делайте глупостей! — услышал он требовательный голос Сени Повольского. — Не меняйте доллары на шиллинги! Зубами держите доллары, зубами!
Этот призыв был обращен к Мише Гурарию или, быть может, к Захару с Мышей. Мыша взглянула, наконец, на Вадима и усмехнулась виновато.
— Ах, оставь, честное слово! — выкрикнула Катя Мещеркина. — Вечно ты со своими долларами… Я — венка, понимаешь? Венка! Хотя бы сегодня! Я иду в кафе и плачу за кофе шиллингами, а не долларами. И мне нравится этот толстозадый Крайский не потому, что он живет в Вене, а потому что я живу в Вене.
— Он, все же, еврей — а добился такого положения, — одобрила Крайского Ира. — И он, говорят, совсем нищий, живет на одну зарплату.
— Зарплата зарплате — рознь, — заметил Андрей Мещеркин и тонко улыбнулся.
Вадим медленно поднялся со своего стула, прошелся по комнате и остановился за креслом Мыши, за массивной тяжелой спинкой.
— Послушайте! — сказал Вадим, ни к кому в отдельности не обращаясь. С силой проведя ладонью по голове, он пригладил волосы и словно бы приготовился произнести речь с трибуны. — Слушайте, делайте глупости! Кто сказал, что нельзя этого? Ведь так с ума можно сойти!
Снизу, из кресла, Мыша смотрела на него тепло. Что за имя — Мыша!
Вадиму не хотелось отходить от кресла, от запрокинутого к нему лица Мыши. Все ждали от него еще каких-то слов, еще чего-то — Мещеркины, Гурарий, Захар у двери. Ему расхотелось говорить. Он неохотно снял руки с залосненной спинки кресла, поплелся в свой угол.
— Может, потанцуем? — сказала Ира Повольская и одернула платье, собираясь подняться с кресла. — Поставь, Верка, что-нибудь, а то, правда, скучно.
Возвращались в первом часу, впереди шла Мыша, за ней Захар с Вадимом. Прямая широкая улица была пуста, и какой-то поздний гуляка, процокавший по мерзлому асфальту далекого перекрестка, только подчеркнул эту сонную пустоту.
— Люди быстро меняются, — словно бы угадав Вадимовы мысли, сказал Захар. — Здесь у всех свои заботы: визы, доллары. Или вот зубы дерут без наркоза.
— Ну уж, у всех… — замедлил шаг Вадим. — А вот, скажем — у тебя?
Не обернувшись, легко хмыкнула расслышавшая Мыша.
— А что я? — переспросил Захар. — Я живу — и все. Нам с Мышей хорошо здесь.
— Доллары тебе не нужны, — вовсе остановился Вадим Соловьев, — Россия тоже не нужна. Так?
— Совдепия не нужна, — мягко поправил Захар. — Да и Вена-то не нужна. Не все ли равно, как это называется: Вена, Париж или какая-нибудь там Филадельфия… Главное, что вот мы идем с Мышей домой, и никто нам не мешает жить, и мы никому не мешаем. В конце-то концов, не все ли нам равно, что тут кругом, — Захар повел длинной рукой в коротком рукаве, — кто это все строил: Франц-Иосиф, Корбюзье или какой-нибудь Смит! Нам-то что? Все равно, это все не наше, это как в магазине — и нашим, слава Богу, не будет никогда.
Вадим вспомнил старенькую «Спидолу», сводку погоды.
— А Андрей Мещеркин… — начал было Вадим.
Захар обезоруживающе пожал плечами — он, мол, Захар, за Андрея Мещеркина не ответчик, у каждого человека и голова своя, и душа своя.
— Тут, в эмиграции, советы никому нельзя давать, — подошла Мыша. — Все равно не станут слушать, только обидятся: не лезьте не в свои дела! А разговоры все об одном и том же: какая же это свобода и справедливость, если у какого-то герра Пупкина дом с гаражом и с мерседесом, а у меня даже на кофе нет, хотя герр Пупкин ничтожество и ничего в жизни не понимает, а я все понимаю и такое видал, что мало кому здесь приснится. А если кому и рассказывать — так денег за это не платят и даже не верят.
— Вот, например, что в России одеколон пьют, — улыбнулся замерзшими губами Захар. — Никто не верит!
— Ну, это мелочь! — отмахнулся Вадим. — А, впрочем, почему ж не верят, если это правда? Ведь не уговаривают же их, что мы там сапоги варим и едим!
— А потому что им это все до лампочки, — сказала Мыша. — Одеколон, сапоги… Они послушают — и дальше идут.
— Ну, пошли, — сказал Захар. — А то холодно.
— Морозит, черт, — поежился Вадим. — А в Риме — тепло?
— Ну, теплей, конечно, чем здесь, — прикинул Захар. — Да ты поживи недельку — привыкнешь! И весна скоро.
— Не привыкну, — буркнул Вадим. — Противно как-то.
— Не уговаривай, Захар, — Мыша взяла мужчин под руки, пошла посредине. — Жалко, что вы не хотите здесь остаться, правда, жалко. А то мы думали — вот, приехал человек, теперь будем вместе. Не то, что нам тут одиноко, но… Понимаете?
Вадим промолчал, с беспокойством чувствуя маленькую цепкую ладошку у своего локтя.
— Понимаете, — продолжала Мыша, — вы нам с Захаром очень понравились. Ну, что тут такого, Захар, если это правда? Вы ведь сами слышали — тут только и говорят о чужих деньгах да о том, что у кого в кастрюле варится. Но если вы чувствуете, что должны ехать — лучше езжайте. У Захара знакомые есть в Фонде, они могут помочь перебраться в Рим. Бог даст, увидимся когда-нибудь.
— Грустно как, — вдруг посветлел Вадим Соловьев. — Хоть напейся.