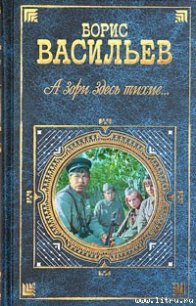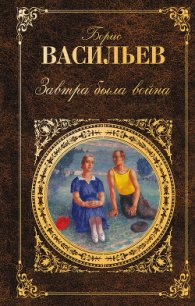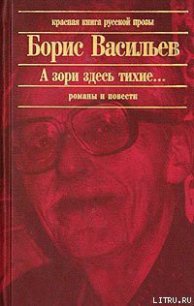А зори здесь тихие… (сборник) - Васильев Борис Львович (книга жизни .txt) 📗
Дым?.. Может, показалось? Может, это воспоминания привели к галлюцинациям и никакого дыма нет и в помине?
Но дым существовал: першил в горле, щекотал в носу, чуть пощипывал глаза. Антонина Федоровна села, настороженно вглядываясь; верхний свет был погашен, горела только лампочка у изголовья, и разглядеть, что творится в темных углах, никак не удавалось. Но она смотрела и смотрела, чувствуя вползающий в комнату дым, и, не видя, уже поняла, что ползет он с той, нежилой половины. «Пожар, – сказала она сама себе. – Без паники, сейчас примчатся пожарные. А пока они будут мчаться, позвоню Оксане, и Тонечка…»
А телефон молчал. Антонина Федоровна постучала по нему, плотнее прижала трубку к уху, даже встряхнула ее, но в аппарате было тихо, ничего не гудело и не трещало. На миг ее охватило отчаяние, но усилием воли она подавила его: «Только без паники, только без паники…» С трудом изогнувшись, она руками попыталась сбросить мертвые ноги с кровати, чтобы потом, уцепившись за кресло-коляску, как-нибудь вскарабкаться на него, подъехать к окну, разбить стекло, крикнуть. Стиснув зубы, она раскачивалась на панцирной своей сетке, а ноги никак не удавалось сдвинуть с места, к самому краю, чтобы потом…
Нет, так ничего не получится: спина ее могла сгибаться только в одном направлении, словно и не ее была та спина. Вот если дотянуться до кресла, опереться о него, выжаться на руках и перетащить проклятые ноги… Она потянулась, пальцами почти коснулась кресла, рванулась из собственной омертвелой поясницы, сдвинулась даже, но от рывка потеряла равновесие. Рука ткнулась в кресло, и бесшумная, отлично отрегулированная и заботливо смазанная каталка мягко отъехала от кровати на пустячные, но уже недосягаемые полметра.
– Помогите! Горим!..
Она крикнула во всю силу, но ровно два этих слова, и тут же привычно взяла себя в руки. Окно комнаты выходило во двор и было закрыто – от комаров, что ли, она попросила спешившую к подруге Тонечку закрыть его или боялась сквозняка? Какие комары, какие сквозняки, какая все это ерунда, когда дым лезет в горло, ест глаза и огонь вот-вот ворвется в комнату?.. Спокойно, Антонина, бери себя в руки и соображай, пока еще есть время.
Значит, так. Судя по всему, горит соседняя пустая квартира, от которой ее отделяет стена. Не очень капитальная, раз сквозь нее просачивается столько дыма. А если горит сама стена? Тогда огонь очень скоро засветится с ее стороны, займутся шторы, полки с книгами, старый комод… Первая ее мебель по разнарядке из военкомата: откуда он, этот комод, кому принадлежал, чье белье, чьи семейные альбомы и любовные письма хранил в своем древнем чреве?.. Стоп, не распыляться, не думать о постороннем, не терять зря ни мгновения. Ну выручай, Карпов, выручай свою фронтовую сестренку…
Она схватила «Новый мир», где была напечатана 2-я книга «Полководца», и, полулежа, вытянутой рукой, как гранату, швырнула журнал в окно. Она сама учила метать гранаты из положения «лежа» зеленых перепуганных парнишек на формировках. И «Новый мир» полетел, как и положено, только ударился не в стекло, а в переплет окна и упал на пол.
Она даже вскрикнула (не от страха – от злости) и выругалась так, как приходилось когда-то в другом дыму и другом огне. Что, скверно, когда баба ругается? Очень даже, а вы там, в том аду, в исступлении том без мата могли бы? Нет, были, конечно, которые не выражались, – говорили, Рокоссовский, мол, никогда такого не позволял, – ну, а она, двадцатилетний лейтенант Тонька Иваньшина, прибывшая после училища ускоренного выпуска на должность командира взвода, заматерилась в первой же атаке. Со страху, с отчаяния. И рейтузы мокрые были, и в сапогах хлюпало, если уж до конца признаваться. Это в кино бабы красиво под пули бегут, а там, где пули настоящие да впереди своего взвода из девятнадцати, помнится, пареньков, там и заплачешь, и матом орать начнешь, и с жизнью прощаться, и мамочку звать – все, только бы не упасть до назначенного тебе рубежа. И только бы бойцы не подвели, только бы не залегли. «Вперед, за Родину, за Сталина! Вперед, мать вашу!..»
Не упала.
Антонина Федоровна мучительно кашляла, задыхаясь от валившего дыма, и слезы ручьями текли из глаз. Какие слезы, Тонька, откуда? От дыма или от прошлого?.. Да, да, первый бой. Добежала, куда командир роты велел, и своих довела. Девять их оставалось: за бросок в триста метров десятеро души отдали. А она нарочно в лужу упала, чтоб не узнал никто, как во время первой ее атаки по ногам в сапоги текло…
А, черт, задыхаться прикажете? Нет уж, не будет этого! Спокойно, Тонька, опять в раму не угоди…
Антонина Федоровна вырвала из розетки шнур, обмотала им настольную лампу и метнула ее от бедра прямой рукой. Со звоном посыпались стекла, дым потянулся в разбитое окно, почти невидимый в серой июньской ночи. А вскоре и дышать стало легче, и кашель не так рвал грудь, и… и Иваньшина увидела отъехавшую от кровати коляску, комод, полки. И огонь тоже увидела. Он во многих местах прорвался сквозь стену, лизал полки, комод, книжки; что-то потрескивало, что-то вспыхивало, что-то еще только тлело, но от огня ее отделяли уже не бревна стены, а – шаги. Четыре шага, которых ей уже никогда не сделать и которые за нее сделает огонь.
Жанна д’Арк на костре сгорела. За Францию и короля. А она за что сгорит? А она не Жанна д’Арк, она – русская баба, что в двадцать лет, еще мужчин толком не познав, поднимала в атаку взвод. «Видишь, взводный, кустарничек под высоткой? Покуда до него не добежишь, не ложись и бойцам ложиться не давай, поняла? Там – мертвая зона, там отдышишься, там даже перекреститься можешь, что живой осталась».
Так ротный велел, и она добежала. Мокрая, правда, ну да ладно. Там отдышались, туда комбат людишек подбросил, а потом: «Вперед!» – и на одном дыхании, на реве, на хрипе – вверх. На высотку. Вот там-то, на высотке, она своего первого и убила. Вылетел вдруг из щели прямо на нее, и она, не колеблясь, пять пуль в упор: до сей поры видится, как брызнула кровь с серого, как земля, немолодого и уже неживого лица, как упал тот фриц несчастный и бился на земле, хрипел, дугой выгибаясь. А она все смотрела, смотрела, глаз не могла отвести, а тут – комроты: «Живая, Тонька?» Сграбастал, целовал так, как никакую невесту не целуют, и сам – в слезах. А от нее – потом, грязью, порохом и страхом пахнет… А он все понял, все – умница был ротный, смелый и с характером, – все понял, прижал к себе: «Утром бриджи подарю, чтобы солдат не дразнила…» А через два месяца ранило его, ее первого ротного, тяжело ранило, что называется, навсегда, и приказано ей было командиром полка подполковником Зотовым роту принять. И она приняла, как положено, а потом всю ночь ревела. Пила спирт с комбатом да старшиной, что по наследству вместе с ротой ей достался, и ревела. А комбат – старый уж, из запасных, лет за тридцать – все по голове ее гладил да приговаривал: «Ранило бы тебя легонечко да поскорее…»
Ах, как книжки весело горят! Сами собой открываются, будто огонь просматривает их, прежде чем сожрать. Коробятся, топорщатся, изгибаются, словно живые: вот и она так же будет гореть. Только еще орать, наверно, начнет, не выдержит. А книги умирают молча.
Черт, может, зря она окно разбила? Задохнулась бы – все легче. А теперь дым вытянуло, не задохнешься. И никто не кричит, никто не ломится в дверь. Тонечка не идет, и пожарные не едут, и соседи не шумят: в их подъезде ведь еще две семьи остались, правда, за лестничным пролетом, в торцовой части. Значит, гореть придется?.. Ах, ну почему, почему она с Олегом на дачу не поехала?! Он же просил, умолял, сердился. Взял бы ее на руки, она бы обняла его за шею… Всю юность огонь там был, снаружи: дома горели, танки, самолеты, автомашины – и люди, конечно, тоже горели. Живьем все горело, а в тебе, как отражение, страсть бушевала. Поэтому ты с такой неженской легкостью и пошла на подпольный тот аборт, загубила дитя свое. Выжгло твою душу, до угольков выжгло, вот ведь что война сделала. А теперь и тело сожжет. Нет, не уйти нам от нее, никуда не уйти и не спрятаться.