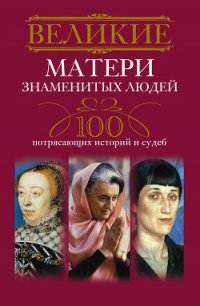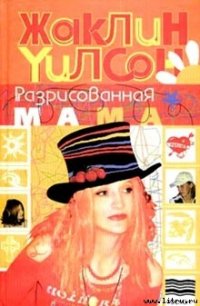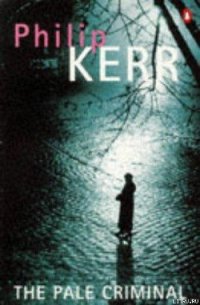Великие голодранцы (Повесть) - Наседкин Филипп Иванович (книга бесплатный формат txt) 📗
Мысли не давали покоя все время, пока Симонов делал доклад. Говорил он складно, без запинки, будто по газете читал. В зале часто раздавались хлопки, вспыхивал смех. Но я ничего не слышал. Страх заглушил все чувства. Может, удрать? В перерыве смыться?
И все же Симонов не назвал меня первым. Немного отлегло. Можно хоть чуток послушать и хоть малость перенять. Но перенять не удалось. Учительница из села Городище жаловалась на недостачу букварей. Чубатый парень из Владимировки канючил про какие-то спортивные принадлежности. Ненамного лучше выступил председатель райпотребкооперации. Он заверил делегатов, что теперь потребиловка займется культтоварами. Нет ничего подходящего. И голова по-прежнему оставалась порожней. Я смотрел на Симонова, сидевшего за столом, и всем видом молил о пощаде. И он, словно поняв все, предоставил мне слово. Оглушенный собственным именем, я продолжал сидеть на месте. Маша толкнула меня в бок и прошептала:
— Ну что ж ты? Иди же…
Я встал и пошел, не чувствуя ног. Взошел на трибуну, обитую красной материей, с тоской посмотрел в зал. Он гудел, как пчелиный улей. Ребята о чем-то переговаривались. Некоторые показывали на меня, будто я был артистом. А мне они представлялись, как на картине. Чубатые, всклокоченные, с конопушками и угрями, в поношенных пиджаках и рваных кацавейках. Там и сям вспыхивали красные косынки девушек.
Симонов нетерпеливо сказал:
— Ну, давай, Федя, не тяни время!..
Внезапно я встретился глазами с Машей. Она смотрела с улыбкой и ободряюще кивала. Я вспомнил разговор по пути и, не отдавая себе отчета, сказал:
— Раньше, чем говорить о культуре, надо самих себя окультурить. А то гляньте, какие мы с вами. На что похожие, многие небось со дня рождения не стриглись. А купались, поди, один раз, да и то в церковной купели…
В зале поднялся смех, гул, гомон. Делегаты поглядывали друг на друга, один другого дергали за волосы. Симонов, тоже улыбаясь, постучал карандашом по стакану.
— Будем вести себя культурно, товарищи. — И, кивнув мне, предложил: — Валяй дальше, Федя…
Но раньше, чем я раскрыл рот, кто-то из дальнего ряда спросил:
— А сам-то ты когда подстригся?
Зал снова вперил в меня веселые глазищи. А я, пригладив назад коротко подрезанные волосы, ответил:
— Сам? Сам подстригся нынче. Когда пришел на конференцию.
Ребята снова закатились хохотом. Мне тоже стало весело. И мы долго смеялись. А когда насмеялись, Симонов опять постучал по стакану. Но его опередил все тот же задиристый делегат:
— А сам додул аль кто надоумил?
Ребята снова уставились на меня. А я, переступив с ноги на ногу, произнес:
— Нет, не сам, Маша пристыдила. Наша комсомолка. Тоже тут корпит. Вон в пятом ряду…
Делегаты завертелись на скамьях, вытягивая шеи, чтобы поглазеть на Машу. А она еще ниже опустила голову, пряча в ладонях горящее лицо. Симонов же серьезно заметил:
— Это неважно, кто надоумил. Важен сам факт. А факт налицо…
Поддержка Симонова приободрила меня. Мелькнула мысль: а чего их стесняться? Они ж такие, как и я. Не хуже, не лучше. И я более уверенно продолжал:
— Вот о том, стало быть, речь. За себя надо сперва взяться. В том смысле, чтобы себя привести в порядок. И другим пример поставить… Даже товарищ Ленин указывал, что личный пример всегда решает. Всегда и в любом деле.
Насчет Ленина получилось непонятно как. Я не знал, говорил ли Ленин о личном примере или нет. Но ребята поверили и совсем затихли. Некоторые даже рты пораскрывали. А я еще напористее продолжал:
— Среди нас есть такие, которые невежеством своим щеголяют. Неграмотность свою выпирают. И бескультурьем кичатся. Дескать, глядите, какие мы пролетарии. А что в них пролетарского? Да совсем ничего. Пролетарии — это же сознательные люди. А какая ж у нас сознательность? Куцая, как хвост зайца.
В середине зала поднялся широкоплечий парень и сердито сказал:
— Насчет сознательности ты это брось. Мы за Советскую власть жизни не пожалеем. И борьбе за дело пролетариата все силы отдадим. А тебя, ежели будешь так трепаться, с трибуны стащим…
В зале снова поднялся шум. Делегаты спорили между собой, доказывая что-то друг другу. Симонов изо всей силы бил по стакану. Нежное дзинканье стекла тонуло в гаме. А я переминался на трибуне и думал. Да, насчет сознательности я, пожалуй, перехватил. Разве ж они не сознательные, эти ребята? Только дан клич да вложи в руку оружие, как все до одного ринутся на врага. И умрут за Советскую власть. Все это так. И задевать такие струны не следует. Но сознательность тоже надо поднимать. Она не может топтаться на месте. И теперь уже мало умереть за Советскую власть. Теперь надо укреплять ее, повышать культуру.
— Я не хотел никого обидеть, — сказал я, когда ребята успокоились. — А если кому мои слова показались обидными — прошу прощения. Но вот насчет сознательности… Ее надо не горлом, а делами доказывать. Вот так я думаю. А что до культуры… Она же такая штука… Голыми руками не возьмешь. Требуется кое-что серьезнее. Скажем, вечера, диспуты, драмкружки разные. Для всего нужно помещение. А где его взять? Вот у нас есть церковноприходская школа. Стоит без всякой пользы под замком. А молодежи собраться негде. А почему бы не забрать эту школу и не перестроить под клуб?
— А почему бы не забрать и не перестроить? — переспросил Симонов. — Что вам мешает?
— Так ведь школа-то церковная. Церкви принадлежит.
— Она принадлежит народу, — сказал Симонов. — Кто ее строил? Народ. Стало быть, народ и хозяин.
— Если так, — обрадовался я, — тогда другое дело, тогда мы попробуем. А райком попросим поддержать, когда нужно будет…
Я уже хотел сойти, но вспомнил еще об одном.
— И вот еще что. Молодежь любит музыку. А где она, музыка? У нас есть балалайки. Правда, самодельные, но приличные. И балалаечников хоть отбавляй. А струн нет. И купить негде. Пробовали из бычьих кишок делать, да пришлось отказаться. Мороки много, а толку мало. Еле бренчат такие струны. Надо бы потребиловке позаботиться. А заодно и о гармошках. Мы бы как-нибудь сообща купили двухрядку. А то есть у нас одна на все село, да и та принадлежит Ваньке Колупаеву. А попробуй сладить с этим Ванькой. Ломается, кочеврыжится, а играет, когда захочет. Да и то больше по свадьбам.
С этими словами я сошел с трибуны. Жидкие хлопки проводили меня до места. Где-то позади вспыхнул девичий голос:
— Молодчина!
В ответ ему хлестнул бойкий ребячий выкрик:
— Дурачина!
Дружные хлопки взметнулись в зале. Делегаты словно хотели заглушить и похвальное и обидное слово.
Обедать отправились в березовую рощицу. Она уже шумела зеленью и манила в тень. В рощице расположились многие делегаты. Они старательно уминали еду и перебрасывались шутками.
Мы выбрали место в сторонке, под курчавой березой. Маша расстелила на траве вышитый рушник и принялась выкладывать нехитрую снедь.
— А как ты распалил ребят-то! Как они против бескультурья ополчились!
— Не все ополчились. Нашлись и защитники. Слыхала, как роговатский на меня набросился? Подумаешь, говорит, подстригся. Ты бы еще духами сбрызнулся. Тогда, говорит, и совсем культурненьким стал бы. Вот тип! А мы, говорит, бойцы. Мы, говорит, будем драться.
— А как Симонов одернул его? Слыхал? Ты, говорит, глянь на себя. Разве ж ты похож на бойца? Скорее у тебя вид бродяги… — Маша кивнула на еду, приглашая меня. — А этого курносого из Николаевки помнишь? Вот рассмешил-то! Давай, кричит, всей конференцией к парикмахеру!
— Он сказал: к паликмахеру.
— Ну да. Становись, говорит, в очередь. И всех — под ежика. А ребята, гогочут и на тебя глядят. Да, распек ты их.
— Ну уж если так, то не я, а ты распекла их.
— Как это?
— А так. Ты же меня заставила подстричься. А с этого и началось.
Маша снова весело глянула на меня.
— А тебе так куда лучше. Ты стал прямо-таки симпатичный.
Я невольно погладил коротко подстриженную шею.