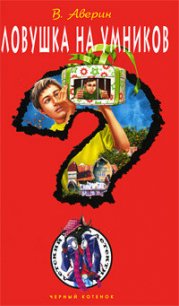Человек должен жить - Лучосин Владимир Иванович (прочитать книгу .txt) 📗
— Так это вы, а это я. Когда-то я тоже неплохо делал, но забыл.
— Никогда вы не делали! Никогда! И не говорите того, чего не было. Это вам не идет.
— Раз в жизни хотел покривить душой, и не вышло. Как вы узнали, что я не делал?
— Это сразу видно. Навыки трудно забываются, Игорь Александрович.
Я с улыбкой смотрел на Валю. Какая она проницательная!
— Я не буду делать в вену.
— Тогда идите к Михаилу Илларионовичу. Я за вас делать не буду… Какой же из вас получится врач? Врач должен все уметь, все знать. И, кроме того, должен все испытать сам, прежде чем назначить больному. Он должен принять все процедуры. Он обязан узнавать по цвету, запаху или вкусу любое лекарство. А вы?
— Убедили. Но сначала расскажите, как надо делать. Вдруг я сделаю не так? В институте нам говорили, что внутривенные вливания очень ответственные процедуры и будто бы их должны делать только врачи.
Валя рассказала мне, как нужно делать.
Я набрал в шприц из ампулы глюкозу, и мы пошли в палату. Перед дверью палаты я остановился и спросил:
— Может быть, все-таки вы сделаете?
— Нет, нет! Сами делайте.
Мы подошли к бледному, худому Руденко. Под глазами синие круги. Он был слаб и даже не вставал с постели. Смотрел на меня с недоверием. Он видел, как я делал инъекцию пенициллина его соседу.
Руденко было двадцать шесть лет. Из истории болезни я знал, что он заболел после гриппа, который переносил на ногах. Сейчас в истории болезни написано, что «состояние больного тяжелое».
Валя сказала как можно ласковей:
— Дайте вашу ручку, Митрофан Сидорович.
Он без всякого желания вытащил из-под одеяла бледную, с синими венами руку. Рука была очень тонкая. Даже не видя больного, а только одну его руку, можно было сказать, что этот человек очень болен.
Валя наложила на руку Руденко, повыше локтя, резиновый жгут. Я начал протирать кожу в локтевом сгибе спиртом, когда дверь тихо раскрылась и бесшумными, невесомыми шагами вошел Вадим Павлович, морговский врач. Он взглянул на Руденко, на меня и широко улыбнулся.
— Лечим? Ну-ну… — И ушел.
— Кто такой? — спросил Руденко у Вали.
— Доктор наш.
— По каким болезням?
— О! У нас много разных докторов.
Хорошо, что она так сказала. И еще лучше, что больные не знают всех наших докторов, не знают, для чего каждый из них предназначен.
Валя затянула жгут и попросила Руденко поработать кулачком. Бледные, худые, словно костяшки, пальцы его сжимались в кулак и разжимались медленно, с трудом, как залежавшиеся, несмазанные клещи. Даже эта работа была для него обременительной.
Я решил вводить глюкозу в самую толстую вену. Валя меня не поправляла.
Отнес шприц далеко от руки Руденко и с налету пытался попасть иглой в вену. Валя шепнула мне так тихо, чтобы не мог услышать Руденко:
— Да вы проткнете не то что вену, а всю руку! — Валя улыбалась. У постели таких больных надо побольше улыбаться.
Я стал двигаться осторожнее. И вот в шприце показалась тонкая струйка крови. Я надавил на поршень — глюкоза медленно потекла в вену. Я не спускал глаз с пузырька воздуха в шприце. Не верилось, что он может быть опасен для человека. Остатки глюкозы я оставил в шприце вместе с этим пузырьком.
В коридоре я спросил Валю:
— Так я делал?
— В общем так. Но движения должны быть более плавными. Разве в институте вас совсем-совсем не учили?
— Мы больше теоретики, — сказал я. — Нас теориями да всякими механизмами пичкали. Кто открыл пенициллин? Каков механизм его действия? Не знаете. А каков механизм действия глюкозы? Тоже не знаете?
Валя смущенно пожимала плечами.
— А я это знаю. Все студенты это знают как таблицу умножения. Зато для вас сделать инъекцию или вливание, — пустяк… Да, мы пока больше теоретики. Без практики в вашей больнице нам никак нельзя.
— Ничего, научитесь, — утешила меня Валя.
В сестринской комнате я промыл под краном шприц, иглу и положил их на столик, покрытый подкладной клеенкой. Валя положила их в стерилизатор для кипячения. Шприцы не залеживаются, они в ходу круглые сутки.
Я вспомнил про разбитый шприц и напомнил о нем Вале.
— Придется мне платить, — сказала она. — Михаил Илларионович не прощает нам ни разбитых шприцев, ни разбитых градусников. Больной разобьет, а отвечаем мы.
— За шприц уплачу я.
— У вас же денег нет, вы студент.
— Кто вам сказал, что нет?
— Как хотите.
На этом мы и порешили.
Я вошел в ординаторскую. Зазвенел телефон. Я взял трубку. Мужской голос просил позвать медсестру Машу. Я не знал такой медсестры. Я постучал в стену кулаком — вошла Валя. Я спросил, есть ли у нас такая сестра. Она сказала, что есть санитарка Маша, и добавила, что, наверно, Маша скоро будет выдавать себя и за доктора. Валя пошла искать ее.
Вскоре я увидел Машу. Ей было лет семнадцать. Сероглазая, под косынкой чувствуются тугие косы.
Она говорила долго, и лицо ее все время улыбалось. Вошла врач Екатерина Ивановна. Маша торопливо сказала в трубку:
— Меня зовут, позвони позже. — Она положила трубку на рычаг.
Екатерина Ивановна сказала:
— Никак не наговоришься! Пыль стирать — так времени нет, а на разговорчики время находишь? — И обратилась ко мне: — Ну, что за девица! Из-за этих кавалеров ей работать некогда. День и ночь звонят. И хотя бы один звонил, а то запутаешься: Вася, Коля, Юра, Ваня, Петя, Валерий… Ошеломляющий успех! Посмотрим, за кого она выйдет. — Екатерина Ивановна чиркнула спичкой по коробку и закурила. Екатерине Ивановне было около шестидесяти. Лицо ее уже успело усохнуть и походило на вяленую грушу, которые продают на лотках в Москве.
— Ну, а у вас есть невеста? — спросила она у меня совершенно серьезно.
— Нет. Мне еще двадцать.
— Вполне достаточно, чтобы иметь невесту.
Я покраснел. А потом покраснел еще гуще, потому что вошла Валя.
— Валентина Романовна, — сказала Екатерина Ивановна, выпустив изо рта дым. — Как вы думаете, мужчина в двадцать лет вполне годится для женитьбы?
— Не знаю, Екатерина Ивановна.
— Как это вы не знаете? А вам сколько?
Валя не ответила.
— Скромничаете? Я сама знаю: лет восемнадцать-девятнадцать. Вот и выходите за него.
— За кого?
— За Игоря Александровича. Чем не жених?
— Я слишком высокая для него.
— Пустяки. Он еще вытянется. Мужчины растут до двадцати пяти.
Валя не отвечала.
— Значит, он вам не нравится?
— Ну, прямо не знаю, о чем вы говорите! — рассердилась Валя и выбежала из ординаторской.
— Мы вас женим, — сказала мне Екатерина Ивановна. — Только и жить, пока молодой, а в нашем возрасте все неинтересно.
Маша просунула голову в дверь.
— Игорь Александрович, вас зовут обедать.
— Простите, — сказал я Екатерине Ивановне.
— Идите, конечно: простынет.
Захаров и Гринин сидели за столиком у окна.
— Вот и он! — сказал Гринин, увидев меня в дверях.
— Как Лобов? — спросил я Захарова.
— Живет! А Коршунов как?
Меня опередил Гринин:
— Лучше. Гораздо лучше. Я заходил к нему сегодня четыре раза. Обещал скоро выписаться. «Я, — говорит, — из вас хирургического аса сделаю». Эх, скорее бы выписался!
Я сказал Гринину:
— Михаил Илларионович будет решать, когда его выписать, а не он сам. Он слаб, и еще держится высокая температура. Выпишут через недельку, не раньше.
— Не думаю, — возразил Гринин. — Пенициллин в два дня собьет температуру.
— Посмотрим, — сказал я.
— Держу пари!
— Тише, дети, — сказал Захаров. — Дайте спокойно поесть.
С двух до четырех у нас был перерыв, и мы пошли отдохнуть к себе в общежитие, в школу. Все сразу же разделись и легли спать, ведь ночью не пришлось сомкнуть глаз даже на минуту. Я завел будильник и стрелку звонка поставил на полчетвертого. Захаров и Гринин вскоре захрапели.
Я долго не мог уснуть. Мне не хотелось вставать и идти к четырем в поликлинику. Мне хотелось только спать, и я перевел стрелку звонка на одиннадцать вечера. Надо же отоспаться за эту сумасшедшую ночь. Засыпая, я слышал гудки паровозов и металлический перестук колес. Казалось, кто-то играет на неизвестном мне инструменте. Еще мне казалось, что все поезда идут в Москву. И на одном из них я и со мной еще кто-то — не то операционная сестра Нина, не то Валя.