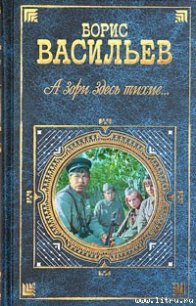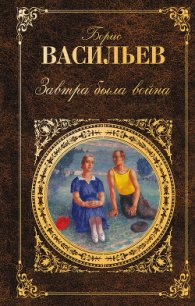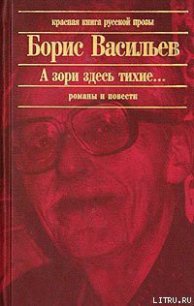А зори здесь тихие… (сборник) - Васильев Борис Львович (книга жизни .txt) 📗
Стало быть, старший лейтенант Иваньшина с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить, а о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели. Ей выделили комнату в двухкомнатной квартире почти в центре города, но в деревянном, чудом уцелевшем в пожарах войны двухэтажном доме. Одновременно в соседнюю комнату тогда вселилась большая и чисто женская семья: матери, дочери, бабки и внучки и – ни одного мужика. Ни мужа, ни отца, ни брата, ни сына – кого убили, кто сам помер, а кто и сбежал от всей этой чересчур уж громкой, плаксивой, истеричной бабской оравы. Мужиков не оказалось, а тоска по ним осталась, чем и объяснялось особое, пронзительное любопытство соседей. За Тоней и за ее гостями-мужчинами следили, затаив дыхание, из всех щелей, и лейтенант Иваньшина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа. Так сложилось с первых дней, так и продолжалось потом, когда место нечастых мужчин заняли девочки-студентки. И здесь соседки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию, что Иваньшина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы. Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки оказывались студентками и клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. В такие клятвы умудренный жизнью участковый давно не верил, но Иваньшина была фронтовичкой, и беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания.
– А почему это она одна в четырнадцати метрах, а мы пятеро в семнадцати?
– А потому, что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается, – резонно объяснил милиционер и навсегда снял этот вопрос с повестки дня.
Вся эта сквалыжная возня привела к тому, что Тоня решительно вычеркнула соседей из своей личной жизни, проходя сквозь мам, дочек, теток и бабушек как сквозь объекты бестелесные и как бы вообще не существующие. И так шло: она жила своей жизнью, они – своей. Умирали, уезжали, ссорились, болели, выздоравливали, а потом вдруг съехали. И только когда переезжали, Антонина и обратила на них внимание: уж очень громко вещи перетаскивали.
Соседи исчезли, наступила тишина: комната долго стояла пустой. Потом появился управдом и с ним молодой, простой и приятный парень с обезоруживающей улыбкой.
– Беляков Олег. Ордер вот получил. Соседом вашим буду.
Но до того, как стать соседом, требовалось сделать ремонт. Олег разыскал мастеров, каждый вечер приходил убирать за ними и убирал, надо сказать, очень старательно. Раза два или три он появлялся с женой – по виду так совершеннейшей девчонкой, которая придирчивой Антонине понравилась. Это уже было после института, уже лет двадцать, что ли, прошло, и у Иваньшиной сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом… Но Антонина не обижалась: понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала, хотя веселее ей от этого не становилось.
В то время у нее жила Лада, Ладочка, Ладушка – ласковое и обаятельное создание, состоящее из сплошных кругов: круглое личико, круглые глазки, круглые ушки, круглый ротик и даже кудряшки над круглым лобиком были круглыми. Это умиляло само по себе, но на третий день их совместного житья Антонина умилилась беспредельно.
– Можно, я буду называть вас мамой?
Ладочка была из маленького районного городка, а мечтала работать здесь, в областном. Она часто говорила о своей будущей работе, о взаимоотношениях с учениками («Мы, конечно же, будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка?..»); о будущих сочинениях («Я не хочу казенщины: образ Татьяны… и так далее. Я хочу, например, такую тему: женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка?..»); и даже о будущих сослуживцах («Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?..»). Ах, как была счастлива «мамочка»! Ее никто никогда так не называл и – она знала – никогда так не назовет. Нет, нет, все предыдущие ее девочки были прекрасными, они давали столь необходимую ей возможность заботиться о себе, но ни к кому она не относилась так, как к упругой, кругленькой, вкусненькой, как пампушка, Ладушке. Лада умудрилась растревожить не только ее материнский инстинкт, но и материнское чувство: Антонина Федоровна Иваньшина впервые в жизни познала материнскую любовь.
– Ладушка, хочешь работать в моей школе? – К тому времени Иваньшина стала директрисой, и выражение «моя школа» звучало вполне уместно. – У нас хороший коллектив, опытные педагоги.
– Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.
– Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в гороно.
– Я ни о чем не прошу…
– Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.
– Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов я комсомолка, и это мой долг.
– И ты оставишь меня?
– Мамочка! – Ладочка повисла на шее, расцеловала. – Ты моя родная. Самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.
– Говори мне так всегда. Мне приятно.
– Мамочка моя!..
Таяло, млело, умилялось сердце командира стрелковой роты. А после этого разговора по душам Лада стала еще внимательнее и нежнее.
В прописке не отказали. Хотя дали разрешение не сразу и без особой радости.
– В порядке исключения, Антонина Федоровна. Учитывая вашу личную просьбу.
Через пять дней сияющая Лада примчалась из милиции, потрясая паспортом:
– Мамочка, родная моя! Теперь мы навеки вместе, потому что у меня постоянная прописка. Ура, мамочка!..
На радостях купили шампанского и огромный торт. Пили, плакали и мечтали.
– Мамочка, у нас начинается практика. Можно, я буду ходить в твою школу?
– Конечно, доченька. Привыкай, тебе в ней работать.
– Ура! Я буду преподавать литературу в самой лучшей школе города!
Все эти пиры и радости происходили еще при старых соседях. Потом появился Олег Беляков, затеявший неторопливый и основательный ремонт и каждый вечер регулярно приходивший убирать мусор.
А однажды – только маляры закончили работу – в комнату вошла Лада с незнакомым мужчиной лет за тридцать. Названая дочь несла объемистый тюк, а незнакомец – два больших чемодана. Иваньшина сидела у окна – в последнее время она что-то хуже стала видеть – и на руках подшивала своей любимице платье.
– Это мой муж.
– Муж? – улыбнулась Антонина, ожидая неожиданной шутки или какого-нибудь веселого розыгрыша, на которые ее Ладочка была мастерица.
– Паспорт показать, Антонина Федоровна? – Мужчина широко, по-свойски улыбался и вести себя старался тоже по-свойски, но Иваньшина видела, что он изо всех сил пытается преодолеть самого себя. – Комнатка светлая, сухая. Ремонт, конечно, неплохо бы провернуть, потолок побелить.
– Какой муж, какой ремонт? – Она все еще улыбалась, но уже чуяла что-то очень недоброе. – Почему вдруг – потолок белить?
– А потому, что я, согласно закону, как супруг, прописываюсь на жилплощадь жены. – Неизвестный уже справился с первым смущением, преодолел себя: и тон и вид его стали агрессивными, точно он стеснялся теперь за те первые нерешительные нотки. – Скажете, что не согласны, так вот вам заявление, чтоб, значит, жировочки пополам: мы свои права знаем. А будете спорить – общественность оповестим, что вы мешаете счастью молодой семьи, законно прописанной на этой вот жилплощади с вашего же согласия. Устраивает? Тогда давайте сосуществовать.
Где-то в середине этой деловитой и, видимо, заранее сочиненной речи Антонина почувствовала, будто сухой, твердый, как камень, глинистый ком снова ударил в позвоночник. Точно в то же место, только боль была иная. Пронзительно острая, нестерпимо острая, лишившая ее не сознания, а способности двигаться. Двигаться и говорить, и Иваньшина только тихо сипела, наливаясь краской и широко разевая рот.